Перевел с армянского автор.
О, как печально видеть глаза птицы с перебитыми окровавленными крыльями,
которая напрасно бьётся ими о камень, чтобы снова взмыть ввысь – к небу и солнцу.
Амастег
Западноармянский писатель
В звонке секретарши не было ничего странного. Её манера говорить и задушевно, и при этом наступательно тоже была привычной. Но то, что произошло потом, по-настоящему меня удивило.
– Сидишь себе как ни в чём не бывало дома, отдыхаешь и знать не знаешь, что к тебе пожаловал гость из Еревана.
– Любезная Арина, – с беззлобной иронией сказал я, полагая, что в эфире сейчас идёт передача, в отделе, кроме неё, ни души, вот она, скучая в одиночестве, и позвонила. – Прошу прощения, начисто позабыл доложить вам, что по устной договорённости с главным редактором я готовлю дома срочное сообщение. По всей вероятности, главный в свой черёд забыл предупредить вас об этом. Прошу покорно, будьте снисходительны, простите нас и примите искренние заверения в глубоком почтении.
Арина приходилась мне дальней родственницей по мужу. Года три назад летом явился в редакцию мой родственничек и начал с того, что женили они младшего сына на девушке из Карабаха, сноха оказалась хоть куда, хорошо печатает и в компьютере разбирается, но с армянским образованием здесь на работу не устроиться, коли можешь, дескать, помоги, с институтом у неё порядок, окончила в нынешнем году с золотой медалью. «Институтов с золотой медалью не заканчивают, – улыбнулся я, вполне, впрочем, добродушно. – Может, университет?» «Мне-то почём знать, может, и университет, – виновато согласился дальний родственник. – Я работяга, откуда мне про такие вещи знать?»
Я попросил главного редактора, возражать он не стал: «Ну, раз уж ты говоришь, не буду же я против». «Пусть утром придёт, – сказал я, выйдя из кабинета шефа. – И пусть возьмёт документы».
Так Арина и очутилась в редакции армянских программ Госкомитета по радио и телевидению Азербайджана.
С первого своего дня в редакции стройная, с нежным, хорошеньким смуглым личиком и огненным блеском чёрных глаз Арина выказывала мне явную симпатию. Хотя это вовсе не мешало с присущей ей горячностью и порывистостью потчевать меня пряностями из золотого фонда своего неисчерпаемого карабахского лексикона: ну ты и тип, где тебя вчера носило? Или: ты с кем это лясы точил, битый час дозвониться не могла.
– Что за гость? – спросил я, чувствуя, что Арина не одна, иначе вряд ли она молча проглотила бы мои беззлобные укольчики.
– Я же сказала – гость из Еревана, – прикидываясь обиженной, ответила она. – Ереван – это столица Армении.
– Молодец, – откликнулся я, – просветила. Передай ему трубку.
– Здравствуйте, Лео, – послышалось в телефоне после паузы. – Меня зовут Армен, Армен Арутюнян, я начинающий поэт. Привёз вам привет от Авика Исаакяна, внука великого нашего поэта Аветика Исаакяна, – скороговоркой протараторил незнакомый мне голос. – Видите ли, сегодня мне непременно надо вас повидать; это что-то вроде мечты, она должна исполниться, мне, Лео-джан, нужно встретиться с вами, у меня важный разговор, не телефонный, сами понимаете. По словам Авика, здесь, вдали от родины, ты, Лео-джан, чего уж тут скрывать, единственный, кто способен протянуть мне руку помощи. Могу я прямо сейчас зайти к тебе? Девушки в общих чертах объяснили мне, где твой дом. Замечательные девушки, между прочим, сама любезность и добропорядочность. Вы ведь живёте по соседству с иранским консульством, верно?
– Верно, – невольным эхом отозвался я, мало что поняв из его скороговорки. – Дом тридцать, второй подъезд, квартира шестнадцать.
Не прошло и четверти часа, как Армен позвонил в дверь. Улыбчивый, плечистый, он производил приятное впечатление.
– Вы впервые в Баку? – сказал я, чтобы хоть что-то сказать. Предложил ему присесть и принялся готовить кофе.
– Впервые, – кивнул Армен. Сесть он не сел, предпочёл пройтись по моему жилью и внимательно его осмотреть. – Я здесь меньше недели, остановился у родственника в Баилове. В огромном городе живёшь, Лео-джан, замечательном, беспокойном, жизнь здесь ослепительная. Жить в большом городе – счастье. А море! Море, оно чего угодно стоит! Я прямо-таки влюбился в Баку, честное слово, полюбил его всем сердцем, и если дела мои пойдут на лад, я его сто лет буду помнить. Правильно сказал Маяковский, есть в нём что-то такое, что тянет людей, притягивает. – Армен присел на краешек дивана, тут же поднялся и снова зашагал. – И ведь это был армянский город, Лео-джан, армянский, как и Тифлис в своё время. Слышал анекдот? – он остановился. – Армянский народ – хороший народ, говорит езид. Построили Тифлис – отдали грузинам, построили Баку – отдали азербайджанцам, достроят Ереван – нам отдадут, а сами уедут в Америку. Здорово, да? – он засмеялся. – Если Баку не был армянским городом,- продлолжал он,- почему двадцать второго августа восемнадцатого года, то есть двадцать дней до погромов, ультиматум главкома турецкими войсками Мурсала и начальника германского генерального штаба Паракена был предъявлен именно Бакинскому Армянскому Национальному Совету об условиях сдачи Баку без боя? А, может, ультиматум преследовал иную цель — чтобы всю вину за преднамеренную резню взвалить именно на армян — жертвы этой вакханалии… – Армен задумчиво посмотрел на меня, добавил.- Я тебе вот что скажу, большевики нам много вреда причинили. Очень много! Если бы нам кто и мог протянуть руку помощи, Лео, то только февральская революция, но большевистский переворот сокрушил все надежды Не зря Аветик Исаакян сказал, что ни иттихад, ни царизм, ни Германия с Антантой так основательно не разрушили наш дом, как большевики.– Армен умолк и какое-то время молча расхаживал по комнате. – Я говорил с твоим главным редактором, – неожиданно поменял он тему, – вроде бы неплохой он парень, этот Владимир Абраамян, а, Лео? Он меня понял, но попросил переговорить с тобой. Ну, вот я и пришёл. Дело, Лео-джан, касается убийства.
Я в изумлении уставился на него: ,, Что-что?,,.
– На почве ревности, – спокойно пояснил Армен. – Словом, чего мне скрывать, секретарь райкома нашего Вардениса положил глаз на мою жену. Она у него работала… Мне передали. Ну, а я решил покончить с ним. Такая вот проблема. Милиция, прокуратура, понятное дело, для секретаря райкома все они свои люди. Короче говоря, отец и мать бросились в ноги, просили, умоляли, чтоб я не делал этого, послали сюда, к родственникам, от греха подальше.
– А жена?
– Жена… – Армен нахмурился, покачал головой. – Что тебе сказать? Красивая она, чертовка, очень красивая.
Он глубоко вздохнул и снова покачал головой.
– Ах, Шогик, Шогик… Её я отвёз в Масис, ну, ты знаешь, близ Еревана, к родителям. Такие вот дела, брат… Я задержусь здесь месяцев на семь–восемь, за это время хотелось бы выпустить книгу, небольшой сборник стихов, рассчитываю в этом, Лео, на тебя. Понимаешь, мне нужна моральная поддержка. Хочу вернуться в Ереван с книжкой в руках. Верней, в Масис. А ещё организовал бы ты передачу по радио, это, думаю, нетрудно.
– Если стихи хорошие – без проблем.
– Прочесть?
– Прочти.
– Стихи посвящены Карабаху. Патриотические, так сказать, стихи, – сказал Армен и принялся с воодушевлением декламировать:
Чем край, в котором он растёт
нагорней, непокорней,
Чем дальше от своей родни,
тем он сильней, упорней,
Тем гуще ветви у него,
тем глубже, крепче корни,
Тем соком жизни он полней,
армянский тополь наш.
Чем горше дни его, ведь он
один на горной круче,
Чем больше бьют его дожди,
и молнии, и тучи,
Тем тянется упрямей ввысь,
красивый и могучий,
Тем выше он и зеленей,
армянский тополь наш.
Ввысь тянется из-под скалы,
стремится к небу рьяно,
Чтоб видным быть, чтоб слух о нём
дошёл до Еревана,
Мол, погляди, я был и есть
и буду постоянно,
Чтоб ни случилось, верь и знай,
армянский тополь ваш.
Он взглянул на меня. Таинственно улыбнулся.
Мой отец говорил об этих стихах – они не просто о тополе, нет, о карабахском тополе, тот, словно человек, целеустремлённый, упрямей и выше. Место у него тесное, со всех сторон его продолжают теснить, а он всё равно тянется вверх над ущельями и горами, чтобы разглядеть тополь, растущий в Араратской долине, и чтобы тополь Араратской долины заметил его – такой же армянский тополь из армянского Карабаха.
– Что скажешь?
В эту минуту я достал из серванта бутылку коньяка «Апшерон».
– Сам не пробовал, – уклончиво сказал я, не глядя на него. – Говорят, неплохой. Гейдар Алиев лишь «Апшерон» и пьёт, сам видел.
– Ну, ты даёшь, – усмехнулся Армен. – Я ведь о стихах.
Ситуация сложилась щекотливая. Помявшись, я сказал:
– Знаешь, в 59-м году, когда Сильва Капутикян приехала в Карабах, мой отец учился в десятом классе. По его словам, она как раз тогда и написала это стихотворение. Сама сказала про это на встрече со школьниками.
Мне показалось, Армен смутился. Но его замешательство длилось долю секунды.
– Ну и ну, – как ни в чём не бывало произнёс он. – Выходит, я затвердил наизусть чужие стихи. Знал, что ты коренной карабахец, оттого и прочёл. Карабахцы, скажу я тебе, сильный народ. Недаром Магда Нейман превозносит их до небес. Ты читал?
– Конечно.
– Говоришь, «Апшерон» неплохой коньяк? – Меня уже не удивляло, что он поминутно перепрыгивает с темы на тему. Он потёр ладони. – А ну налей, поглядим. Сталин тоже писал стихи. «Распустилась роза, нежно обняла фиалку, и жаворонок заливается под облаками».
На следующий день к концу работы Армен появился в редакции. Он был не один. С девушкой, увидав которую, я непроизвольно поднялся со стула и, заворожённый поразительной её красотой, так и обмер на месте.
Армен заприметил это и тотчас воодушевился. Девушке было с виду лет семнадцать-восемнадцать, белое под стать белейшей её коже платье туго обтягивало тонкий стан. Золотистые с каштановым отливом блестящие волосы мелкими волнами падали на плечи, тонкие стрелы бровей, красивый нос с чувственными ноздрями, алые, живописно очерченные и слегка припухлые губы дополняли картину. Глаза же… синие её глаза по-весеннему нежно лучились, устремляясь то на меня, то на Армена.
– Лавна чэ, шан агджикы?* – по-армянски сказал Армен.
– Лавикна**, – согласился я, всё ещё не в силах оторвать от неё глаз.
– Что он говорит? – девушка с улыбкой посмотрела на меня; особую прелесть придавал ей жемчужный ряд зубов, особенно же – два передних , как у Орнеллы Мути, едва приметной щербинкой.
Ответить я не успел. Армен подошёл ко мне и, приобняв за плечи, торжественно представил девушку:
– Махмудова Рена, студентка третьего курса медицинского института, первая красавица Баку.
Рена негромко рассмеялась и, сияя лучистыми своими глазами, протянула мне слабую руку. Я не хотел какое-то время выпускать её нежные холодные пальцы с перламутровыми ногтями и, не мигая, взирал на неё, словно стремился навсегда запечатлеть колдовскую прелесть этого светозарного лица с его девичьим, немного даже детским выражением.
– Да отпусти ты её руку, – рассмеялся Армен; он получал видимое удовольствие от эффекта, произведённого на меня девушкой.
Рена села напротив меня, по ту сторону стола, закинув ногу на ногу, как бы намеренно демонстрируя гладкие, будто выточенные как мрамор, колени.
– Садитесь, чего вы стоите? – певуче произнесла она, взглядом убеждая
подчиниться. Как будто, чтобы непринуждённо чувствовать себя в собственном кабинете, требуется чьё-то позволение либо понуждение.
Она откинула голову назад, волосы взметнулись и сызнова легли волнами на плечи.
-Ты не против, если я позвоню в Ереван? – спросил Армен и, не дожидаясь ответа, подтянул к себе телефон, достал из кармана записную книжку и положил на стол. – Смею надеяться, ваш теле-радио комитет не бедствует и государство не обанкротится от одного–двух моих звонков.
———————————————
**Лавна чэ, шан агджикы? (арм.). -Хороша, нет, чертовка?
**Лавикна. (арм.) — Хорошенькая.
– Звони, о чём речь? – кивнул я и, чтобы не стеснять его, вышел из кабинета.
Шефа не было, должно быть, ушёл домой. Редактор отдела последних известий Лоранна Овакимян – лет около тридцати, высокая, стройная, совершенно не похожая на армянку, – склонившись над столом и упрямо сжав чувственные губы, редактировала текст. Сложением она смахивала на Мадонну, да и волосы у неё были рыжеваты, как у этой заокеанской звезды. Ходили слухи, будто прежний главный редактор, одно время без памяти в неё влюблённый, посвятил ей множество стихов.
Я как-то не вполне серьёзно поинтересовался, насколько правдива эта история. Лоранна не подтвердила, но и не опровергла слухов и со смехом
сказала: «Влюблённый старикан – одно из величайших недоразумений природы».
Теперь этот прежний главный редактор уже с месяц является к концу дня в угловую Аринину комнатку и, устроившись поудобней, диктует свои мемуары.
– Что это у тебя за девица? – не отрываясь от работы, издалека начала Арина.
Прежний шеф обернулся и, увидев меня в дверях, вежливо поприветствовал.
– Знакомая твоего задушевного друга Армена, – сказал я. – Ещё вопросы?
Арина выкатила на меня большущие чёрные глаза, но смолчала.
– Мне-то показалось, он эту девицу тебе привёл. – Она всё-таки не сдержалась и куснула меня.
– Да, есть у него такая мыслишка, – равнодушно подтвердил я. – Тебе она что, не по вкусу?
– Эффектная девушка, – вмешалась Лоранна. – Они до тебя зашли сюда, Армен сказал, что она азербайджанка, в медицинском учится. Редкая красавица, настоящая топ-модель. Я женщина и то диву далась. А ещё Фета вспомнила: «Есть ночи зимней блеск и сила, есть непорочная краса».
– Где этот изменник нации её выискал? – полюбопытствовала Арина и, встав из-за стола, подошла к нам. – Извините, Самвел Атанесович, я подустала, – бросила она через плечо. – Того гляди давление подскочит.
Лоранна прыснула – знала, только лишь Арине расхочется печатать, у неё тут же подскакивает давление. По спецзаказу.
– Ну, что на это скажешь, – уныло произнёс экс-главный. – В понедельник продолжим.
– В прошлый раз Армен интересную вещь сказал, – засмеялась Арина, – мужчины, дескать, любят глазами, а женщины ушами.
– А по-моему, – возразила Лоранна, – мужчины слушают ушами, а женщины – глазами. Те – чтобы понять, о чём им толкуют, а эти – чтобы понравиться всякому, с кем говорят.
– А ещё Армен сказал: если дышишь, значит, любишь, если любишь, значит, дышишь. Это очень верно, потому что без любви жизни нет и быть не может. У кого-то я прочла, ах да, у Блока: «Только влюблённый имеет право на звание человека». Армен говорит, будто в Индии, когда девушка выходит замуж, ей ставят на лбу красную метку. Правда?
– Правда, – подтвердил я. – А жениху дарят снайперскую винтовку – чтоб они вместе состарились, верные друг другу.
– Да ну тебя! – отмахнулась Арина, но в голосе у неё прозвучала нотка восторга. – Армен ещё говорит…
– Послушай, – прервал я её, – у тебя Армен с языка не сходит. Уж не ревнуешь ли? Вообще-то не ревнует тот, у кого не осталось надежды. Знаешь, из чего состоит ревность? Из ущемлённого самолюбия и малой дольки любви в нём.
– Муж ревнует – стало быть, любит, а не ревнует – стало быть, ещё ничего не знает, – засмеялась Лоранна. Но Арина и бровью не повела, её занимал я.
– Самолюбие… Ну да, ревную, ты-то как догадался? – Глаза Арины яростно сверкнули, но она сдержалась, и в уголке рта заиграла сдавленная усмешка. – Между прочим, он меня приглашал в ресторан. – И повернулась к экс-главному: – Не надо думать о смерти, потому что бессмысленно думать о неизбежном. Бальзак сказал, что нужно стремиться к прекрасному. Так что думать надо о жизни, Самвел Атанесович, о хорошем и красивом.
– Это вам, Ариночка, положено думать о хорошем и красивом, – разъяснил экс. – Мы живём исключительно воспоминаниями, потому что, когда старость одолевает, не только лишаемся способности думать о хорошем и красивом, но и теряем на это надежду. Ты что, не читала моих стихов: «Ах, проводи меня до дому, почувствуй дрожь моей руки, тогда и ты поймёшь однажды, о чём тоскуют старики»? Так-то во-от, – тягуче произнёс он и, украдкой глядя на Лоранну, добавил: – Старики – всё равно что увядшие цветы, а кто ж их, увядшие цветы, любит?
– Что случилось, Самвел Атанесович? – спросил я. – Что за упадничество, что за пессимистические разговорчики?
– Не знаю, что и сказать, Лео, – бывший шеф снял очки в поблескивающей жёлтой оправе и принялся вытирать стёкла. – Я тут просил совета у наших девушек… Понимаете, вот уже тридцать лет состою депутатом Верховного Совета республики, в последний раз меня даже членом Президиума сделали. Ясно, что как умру, меня похоронят в правительственном пантеоне. Но ведь жена-то моя похоронена на армянском кладбище, у стадиона. И на что ж это похоже – она там, я тут?
– Обратитесь в ЦК, пусть после вашей смерти её перенесут к вам, – посоветовала Лоранна.
– Да нет, – с сомнением произнёс экс. – По-вашему, они согласятся? – он вопросительно посмотрел на меня. – Это реально?
Наш внештатный переводчик Сагумян, деликатный старичок с короткой бородкой и тихим голосом, сидя за столом в глубине просторной комнаты, переводил официальный материал телеграфного агентства для вечернего выпуска радионовостей. Он оторвался от своих бумаг, на минутку перевёл взгляд на экс-главного и сокрушённо покачал головой.
А я никак не мог взять в толк, о чём, собственно, идёт речь.
– Или наоборот, – вмешалась Арина. – Пускай вас перенесут к ней. Только и это бесперспективно. Пантеон есть пантеон…
Лоранна зажала рот ладонью, чтобы не фыркнуть. Я укоризненно глянул на Арину: что ты мелешь!
– Ну, я пошёл, – сунув папку в авоську, сказал бывший. – Заказал продукты в распределителе. Принесут, а меня нет, унесут обратно. – И, повернувшись ко мне, небрежно сказал: – Давненько, Лео, вы не даёте моих литературных опусов. Ни по телевидению, ни по радио. Неужто уровень у меня ниже, чем у Кости Хачаняна, а ведь его-то стихи у вас не залёживаются. У меня есть кое-что новое, те, кому я это показывал, одобрили. Мне хотелось бы выступить. Если надо, поговорю с Владимиром.
– Не надо, – сказал я. – Занесите, дадим в конце месяца.
– Спасибо, – поблагодарил он, и в его голосе послышалось подобострастие. – А то ведь мои читатели подумают, что я умер.
Он попрощался и, помахивая авоськой, ушёл.
– Гляньте-ка, как он присмирел. Ну и притвора, – неприязненно прокомментировал этот диалог Сагумян. – Жизнь прожил, целую жизнь, а ни войны, ни тюрьмы, ни ссылки не видел, всё его миновало, не то что других. Всегда был обеспеченным, как сыр в масле катался. Страна рушится, а ему только бы перезахоронить жену в пантеон. А ведь она, между прочим, обыкновенным врачом была.
– Каждому своё, – с горькой иронией сказала Лоранна. – Нет у человека других забот. Дочь устроена в Ереване, сын в Москве, живут как у Христа за пазухой, о чём ему тревожиться. В магазинах хоть шаром покати, а ему всё готовенькое по заказу приносят. «Назовите-ка цифру – сколько наших часов, бессчётных и неисчислимых, улетели-канули в простые и тяжкие времена по очередям и шествиям». Паруйр Севак, земля ему пухом. Вчера ради полкило сосисок простояла четыре часа.
– Зато республика что ни год перевыполняет планы и получает переходящее красное знамя. Чего же тогда в магазинах-то шаром покати? – съязвил из своего угла Сагумян, оторвавшись от перевода.
– В курсе ли ты, Арина, – обратился я к ней, – что сказал о тебе Цицерон?
– Обо мне? – она ткнула себя в грудь. – И что же?
– Он сказал – держи язык за зубами, коль скоро то, что ты собираешься сказать, не лучше молчания. Или что-то в этом роде. О чём ты толковала? Какие такие перспективы у покойника? Ты говоришь, а потом думаешь, или всё-таки наоборот?
– Ты о чём, я что-то не соображу. – В глазах смешинки, улыбка не сходит с лица, сверлит меня взглядом.
– О чём? Видишь ли, люди, помимо всего прочего, отличаются друг от друга ещё и тем, что некоторые сперва думают, а потом открывают рот, а другие несут без разбору, что в голову взбредёт. Ты себя к какому типу относишь?
Те же смешинки в глазах, та же улыбка в пол-лица.
– Опять не дошло?
– Нет. – Арина тряхнула головой, по-прежнему не сводя с меня глаз.
– Хотелось бы знать, что ты без конца печатаешь, из-за чего тронулась умом?
– Воспоминания, – с готовностью ответила она. – Книгу воспоминаний о людях, которых Самвел Атанесович видел… и не видел.
– Обычно в книге воспоминаний автор описывает свои личные впечатления о встречах с каким-либо примечательным человеком, – бесстрастно сказал я. – А рассказывать о тех, кого никогда не видел, – это что-то новенькое.
– Новенькое, – раздражённо хмыкнула Арина. – Мне-то почём знать. Он пишет, я печатаю, вот и всё.
– Да нет, он пишет оттого, что ты печатаешь. Это твоя вина, – с серьёзным видом изрёк я. – Откажись ты печатать, он бросит писать.
– Бросит писать… Так что же выходит, оставим книгу на полуслове? – Арина растерянно смотрела на меня.
Лоранна сказала ей сквозь смех:
– Помолчи ради Бога, у меня сил нет смеяться.
– А что касается ресторана, то непременно сходи, – посоветовал я. – Не то парень обидится.
– Парень обидится. Уф… – состроила рожицу Арина. – Хорош родственничек, нечего сказать.
Изображая оскорблённую невинность и вонзая каблучки в паркет, она устремилась в свою комнату.
Я в приподнятом настроении вышел в коридор и направился к себе, с каким-то странным восторгом предвкушая, что сейчас увижу Рену.
Армен уже закончил говорить по телефону, положил трубку и сказал:
– Спасибо, Лео, я позвонил.
Рена просматривала газету, потом отложила её, на мгновенье задержала взгляд на мне и неуверенно произнесла:
– Это правда, что у вас сегодня день рождения?
– У меня?
– Или он выдумал? – Рена подозрительно покосилась на Армена.
– Вот что, Рена, – медленно начал Армен, строя в мою сторону гримасы: мол, подыграй мне, но, видя, что из-за моего тугодумия либо несообразительности его затея пойдёт насмарку, решительно взял инициативу в свои руки и затараторил: – Видишь ли, милая Рена, дело в том, что у нас в Армении существует издавна почитаемая традиция – накануне дня рождения пойти в ресторан на так называемый пробный день рождения, ну, или, скажем, в кафе. Там за чашечкой кофе, стаканом коктейля или бокалом шампанского мы обсуждаем, как провести мероприятие, чтобы, так сказать, не нарушить давно укоренившийся в народе обычай. Моё предложение – следует соблюсти этот священный старинный обычай. У нас видят в нём едва ли не закон.
– Здесь ничего такого не существует, – простодушно сказала Рена.
– Здесь нет, а там да, – отрезал Армен и встал. – Словом, милая Рена, не будем терять время понапрасну и обижать Лео, он, уж будь уверена, достоин хорошего к нему отношения. Идём в «Новый интурист», он вроде бы недалеко. Ну а что там пить, кофе или, к примеру, шампанское, разницы никакой.
Рена попыталась деликатно воспротивиться:
– Простите, прошу вас, я не могу… Вы ведь сказали, что мы поднимемся всего на две минуты. Вы попросили…
– Нет, нет, – продолжил ломать комедию Армен, – нельзя игнорировать старинный обычай братского народа. Нет, нет и нет, я обижусь, Рена-джан, честное слово, обижусь, Лео тоже обидится. Лучше бы позвонила кому-нибудь из своих подружек, но так, чтобы девушка была на славу и понравилась Лео. Ты говорила, что у тебя есть подружка-армянка, зовут её, помнится, Римма, твоя однокурсница. Красивая?
– Красивая. Только какое это имеет значение? Всё равно с незнакомыми ребятами она никуда не пойдёт. Я…
– Послушай, поначалу все друг с другом не знакомы, что за беда? – гнул своё Армен. – Твое дело позвонить. Если откажется наотрез, позвони другой подружке. Посидим, послушаем музыку, отвлечёмся на час–другой от будничной суеты. Тем более, впереди суббота и воскресенье. Я, по-твоему, не прав? Если не прав, так и скажи. Позвони, Рена, старших надо слушаться. Лео, дай сюда телефон. О расходах не беспокойтесь, всё беру на себя. Приглашаю вас.
У Рены были в эту минуту беспомощные глаза.
– Прекрати, Армен, не надо никуда звонить, – внезапно вырвалось у меня. – Мне не хочется.
– Вот те на! Чего тебе не хочется? В ресторан идти? Не понял, – напирал на меня Армен. – Ты что, не губи дело! – воскликнул он по-армянски. – При таком друге, как ты, и враги ни к чему. Не слушай его, Рена, звони.
– Повторяю, Рена, не надо никуда звонить. – на сей раз уверенно, без колебаний сказал я. – Мне, даю слово, никто не нужен. – Я чуть было не добавил: кроме тебя, но, слава Богу, сдержался.
Рена словно бы прочитала мои мысли, в её синих глазах блеснул озорной лучик.
– Ну, стало быть, пойдём втроём, – тут же решил неуступчивый Армен.
Ровно через полчаса он уже провозглашал тост:
– По-моему, не правы те, кто грустит от мысли, что через сто лет их не будет. Это то же самое, что плакать и стенать от мысли, что тебя не было сто лет назад. А вот что говорит по этому поводу Омар Хайям: «Пока мира не открыли двери, он вовсе не испытывал потери. Ну а не станет нас, то и тогда не обеднеет мир по крайней мере». Главное – нынешний, текущий день, а посему давайте выпьем за день, который мы сию минуту проживаем, за эту самую минуту, когда мы сидим здесь и вместе радуемся. На высоком утёсе были высечены письмена. Богатые, читая их, плакали от горя, бедняки радовались, а влюблённые воздавали должное каждому совместно проведённому мгновенью. Между тем на высоком утёсе была высечена простая и ясная фраза: всё это временно. В жизни, конечно же, сладостных дней будет немало, невозможно, чтоб их не было вовсе, пусть же в ряд этих счастливых дней попадёт и этот – день нашего знакомства. Хороший день, честное слово. Твоё здоровье, Рена-джан, будь всегда такой красивой и желанной. И за тебя, Лео-джан, и за меня, и за этот день, и за этот миг.
Весь второй этаж «Нового интуриста» занимали рестораны, уставленные зеркалами, устланные и увешанные коврами с восточным орнаментом, изукрашенные сценками из сказок. Собственно, они, эти рестораны, соответствующим образом и назывались: «Ковровый», «Восточный», «Зеркальный», «Хрустальный».
Мы сидели в «Восточном», который находился в правом крыле гостиничного здания, чьи высокие и широкие окна смотрели на море. Морские волны играли под вечерним солнцем.
Повсюду звучала музыка, по большей части турецкая, которая за последние два года стала массовой. Изо всех уголков города от приморского парка до дальних предместий доносились голоса турецких певцов Якуба Зуруфчи, Тезджан, Седен Гюлер, Таркан…
Оркестранты переключились на танцевальную мелодию: «Хау ду ю ду, мистер Браун, хау ду ю, ду ю, ду…»
– Это справедливо, Лео? – прикуривая от зажигалки, Армен повернулся в кресле. – Мы вдвоём сидим с одной девушкой, а вон там, – он кивнул на компанию в двух–трёх столах от нас, – там целый девичий цветник, и с ними двое мужчин. Надо бы одну из этих девушек пригласить к нам. Посмотри, какая хорошенькая брюнетка танцует. Если нравится, я мигом приглашу её за наш столик.
По круглой танцплощадке в бурно льющемся из прожекторов потоке света всех цветов радуги кружились парочки. Особо привлекала внимание одна из них – полноватый парень и стройная брюнетка. Танцевали они самозабвенно и порознь, не касаясь один другого, но не отрывая друг от друга взглядов; улыбка не сходила с их лиц.
Мелодия оборвалась, однако, едва парочки разошлись, грянула новая.
– Спрашиваю последний раз, Лео, потом пожалеешь.
Рена пригубила шампанское и выжидательно посмотрела на меня.
– Я-то при чём? Тебе надо, ты и приглашай.
Армен вскочил с места и, огибая столы, направился через весь зал.
– Одиссей двинулся завоёвывать Трою, – пошутила Рена.
Спустя минуту брюнетка уже танцевала с Арменом. Он, должно быть, говорил ей что-то забавное, потому что она без удержу смеялась, иногда склоняя голову к его плечу.
– Я хотела бы позвонить домой, – сказала Рена, слегка подавшись вперёд. – Интересно, телефон-автомат здесь есть? – Её лицо выразило озабоченность. – Наши могут забеспокоиться.
Я достал из-за пояса радиотелефон, ещё не вошедший в широкий обиход, включил и протянул ей, про себя радуясь, ибо домашний её номер останется в механической памяти. Избавленная от необходимости искать, откуда позвонить, Рена с благодарностью взглянула на меня. Взяла трубку, стала нажимать кнопку за кнопкой. Подождала, пока на другом конце провода откликнутся, и заговорила. Музыка заглушала её голос, и я видел только, как время от времени на красивых её губах расцветала улыбка.
Рена закончила разговор и, в хорошем расположении духа возвращая телефон, произнесла:
– Спасибо. Я предупредила, что немного задержусь. Они уже начали беспокоиться.
Музыка затихла. Приобняв девушку за обнажённые плечи и лавируя между столиков, Армен приближался к нам.
– Нет, это не Одиссей, – со смехом сказал я Рене, – а сын царя Трои Парис. Он похитил Елену и везёт её из Спарты в родные пенаты. И если тот вон увалень – Менелай, муж Елены, то наша погибель неминуема.
Прямо перед этим Армен с брюнеткой, явно подвыпившей и оттого раскрасневшейся, подошли к нашему столику.
– А не начнётся ли у нас война ахейцев с троянцами? – спросил я.
– Какая война? – не понял Армен.
– Ты хотя бы поинтересовался, она одна или с мужем?
– Нашёл труса, – хмыкнул в ответ Армен и показал мне большой палец, мол, всё в ажуре. – Знакомьтесь, Маргарита Войтенко, – представил он девушку. – Знали б вы, через какие препятствия я прошёл, одолевая непреклонность очаровательной Маргариты. Ни за что не соглашалась присоединиться к нам. Нет, нет и снова нет.
– Неправда, – замотала головой новая знакомая. – Вздор. Я по доброй воле и в охотку пришла к вам. И, глядя на ваш стол, вижу, что вовсе не ошиблась. – Она рассмеялась и протянула руку сперва мне, затем Рене. – Боже мой, глаза разбегаются: чёрная икра, красная икра, шашлык, цыплёнок табака, ананас… Пир горой, роскошь! ОБХСС не боитесь? Вы что, иностранцы, не слыхали про наши временные трудности? Быстренько усади меня, Армен, я чего доброго упаду в обморок.
Мы посмеялись.
– Минутку, Маргарита-джан, минутку. – Армен бесцеремонно пихнул меня коленом. – Подвинься, – пояснил он по-армянски, – для тебя же стараюсь.
– И напрасно, было же сказано.
– Ну-ка, ну-ка, – внезапно перешла на армянский Маргарита. – Я для вас что, товар на продажу?
Рена с недоумением взирала на нас, не понимая, что происходит, а мы с Арменом попросту оторопели.
– Прости великодушно, Маргарита, – принялся забалтывать девушку Армен, – мне и в голову не пришло, что ты армянка и знаешь язык.
– Не было повода раскрываться, – пожала плечами девушка. – У человека был сын, от рождения немой. Отец, понятно, горевал из-за этого. Пошли они как-то в лес по дрова. Рубит отец дерево, на шаг отступит посмотреть, куда оно рухнет, и снова рубит. И вдруг слышит истошный вопль мальчонки: «Папа, берегись!» Отскакивает, окидывает взглядом упавший бук и растерянно спрашивает: «Отчего же ты до сих пор не говорил, коли можешь?» «Повода не было», – отвечает сын. И у меня повода не было, – развела руками Маргарита. «Ты армянин, армянка я, и да продлится жизнь твоя», – пропела она, ухватив Армена за локоть. – Ты меня сюда пригласил, значит, я с тобой рядом и сяду. – Лео, – распорядилась она, – пересядь, пожалуйста. Надеюсь, ты не против? – и она подняла глаза на Армена.
– Разумеется, – с готовностью согласился Армен, не видя другого выхода. – Мы же веселимся, а не конфликтуем. Лео, дорогой, пересядь к Рене. Коли Маргарита повелевает, наше дело подчиняться. – И он покорно наклонил голову. – Огонь, а не девушка. Я армянин, армянка ты, бокалы наши налиты. Лео пьёт коньяк, Рена шампанское, я водку. А ты, душа моя, что предпочитаешь?
– А мне всё по вкусу, не знаю, на чём и выбор остановить, – задумалась Маргарита. – Ладно, налей водки.
– Водки так водки.
Я сел по соседству с Реной, на место, которое занимал Армен. Официантка переставила наши с ним приборы, принесла что нужно новой нашей даме. Я порадовался неожиданной этой рокировке и с благодарностью тайком подмигнул Маргарите, а плутовка сразу смекнула, в чём дело, и протянула мне ладонь – мол, хлопни по ней в знак взаимопонимания.
Мы не спеша вкушали ресторанные яства, перемежая их шутками-прибаутками.
– Женщины зависят от мужчин, от их с нами обращения, – сказала Маргарита. – Но коль скоро женщина независима по натуре и уверена в себе, то ей нужен не просто надёжный и успешный спутник, а тот, кого она сама для себя выберет. Именно так, а не наоборот.
Армен торжественно поднял бокал.
– Итак, ветер и солнце поспорили, кто легче разденет женщину. Ветер принимается что есть мочи дуть, а та знай кутается в одежду. Но вот восходит солнце, сияющими своими лучами разогревает небо и землю, и женщина, не в силах противиться зною, снимает платье. Солнцу приносит победу тепло. Предлагаю последовать его примеру. Выпьем же за здоровье наших милых Рены и Маргариты и за наше с Лео тёплое к ним отношение.
– Прекрасный тост, – одобрила Маргарита. – Развивая же свою мысль, добавлю, что неизменно чувствовала себя свободной, у меня во всех ситуациях есть своё мнение и собственный взгляд на вещи. Кстати, знаете, почему Бог создал нас, женщин, сколь обольстительными, столь и глупыми? – она кокетливо указала на Рену и себя. – обольстительными, чтобы вы нас любили, ну а глупыми, чтобы мы любили вас. Одним словом, так и быть, выпьем в моём и Рены лице за женскую красоту, а ещё – за вашу неисчерпаемую щедрость. А насчёт того, чтобы раздеться, то я вовсе не против. Готова прямо сейчас.
Армен захлопал в ладоши.
– Выпьемте за тех мужчин, которые пьют за нас и в наше отсутствие, – несмело произнесла Рена, бросив на меня пронзительный и, как мне почудилось, ласковый взгляд. – Нет, – поправилась она, – выпьемте за тех мужчин, которые и без нас выпьют за нас. Ах, нет, нет, – она с изяществом покачала головой, снова бросила на меня мимолётный взгляд, раскраснелась, обворожительно смешалась. – Выпьемте за тех мужчин, которые мысленно пьют за нас.
Оркестр заиграл новую мелодию: «Грустной песней своей я красавицу не разбужу, сладкий сон её не потревожу…». Медленное танго. Дамы приглашают кавалеров. Маргарита потянула Армена на танцплощадку.
Рена подняла на меня глаза, небрежно откинула волосы с широкого красивого лба.
– Пойдёмте. – Она ласково вложила руку в мою ладонь. Я сжал её пальцы, и мы рука об руку встали из-за стола.
Я не мог оторвать от неё взгляда. Рена временами смущённо улыбалась, отводя глаза. Обнимая правой рукой её талию, я чувствовал тепло хрупкого девичьего тела, прекрасные волосы Рены касались моего лица, и всё это вместе – телесное тепло, запах волос, ослепительная белизна кожи, тонкий аромат духов «Клима» – напрочь выводило меня из равновесия. Я чувствовал также, как благоухала белая кожа; одна её рука лежала у меня на плече, нежные пальцы другой нерешительно подёргивались в моей ладони с испугом бьющейся о стены робкой птахи.
И снова мы сидели за столом, и снова гремела музыка, одна мелодия практически без перерыва сменяла другую, и мы снова и снова танцевали; Маргарита понесла угощение – выпивку и фрукты – от нашего столика к столику своих подруг и снова вернулась к нам. Немного погодя она шепнула что-то на ухо Рены, и они вместе направились в коридор.
– Эта Маргарита – просто тронутая, – после их ухода сказал Армен. – Преподаёт в школе естествознание, они тут с подружками день рождения празднуют. Муж у неё украинец, работает в море, буровик на Нефтяных Камнях, депутат, пятнадцать дней он дома, пятнадцать в море. Так она приглашает меня к себе, каково? Всё-таки это здорово – жить в большом городе.
В проёме зеркальных дверей одновременно появились Рена и Маргарита. Рена шла впереди – высокая, красивая, улыбчивая.
– Ты только посмотри, Лео, какой взгляд, как сложена, что за ноги, – сказал Армен. – Чудо да и только! А характер… Доверчивое дитя, будто и не городская девушка вовсе.
– Извините меня, пожалуйста, мне пора, – вернувшись и присев, произнесла Рена; с виноватым видом переводя взгляд с меня на Армена. – Уже поздно. Спасибо вам большое, но наши беспокоятся…
– Потерпи минутку, Рена-джан. Мы с Лео выпьем на посошок и пойдём, – не дал ей докончить фразу Армен. Рюмки были полны, и он поднял свою: – Нынче мы собрались вместе первый и, Бог даст, не последний раз. Подними рюмку, Маргарита.
– Я не могу больше пить, – качнувшись, Маргарита прислонилась Армену к плечу. – Пётр Первый сказал, что не можно пить мало водки, но и много тоже не можно. Так что я пас, больше ни капли. Но к тому, что сказала раньше, добавлю. Есть всё-таки один мужчина, по крайней мере сегодня, от которого я чувствую себя в полной зависимости. И я безумно этому рада. Скажу вам по секрету, что мужчина этот Армен, и я обещаю до завтрашнего дня хранить ему безоговорочную верность. Благодарю вас за компанию, приятно было с вами познакомиться. Вечер выдался незабываемый, но, как ни жаль, пить я больше – ни-ни.
Мы выпили. Маргарита послала всем на прощанье воздушный поцелуй и, напоказ покачивая бёдрами, направилась к подругам.
– Я тоже вам благодарна. Вечер и правда был чудесный, – смущённо сказала Рена. – Надеюсь, на день рождения Лео вы меня тоже пригласите,- она посмотрела на меня, и меж её охваченных багрянцем губ, блеснули зубы. – Могу я на это надеяться, или вы забудете?
– Ну, чтобы не забыть, договоримся сию минуту, – предложил я. – Завтра к четырём я жду звонка Армена. Приглашаю вас в ресторан «Гюлистан». Вы бывали там?
– Нет.
– Новый ресторан. Шикарный, со многими залами. Армен, надо думать, не был там тоже.
– Не был, – подтвердил Армен, закуривая.
К нашему столику подошёл крупный, с большим животом человек в чёрном костюме.
– У вас всё хорошо? – любезно осведомился он. – Мы стараемся выложиться, только бы угодить нашим гостям.
– Выпей с нами, Рауф Алиевич. Коньяку или водки?
– Ни то, ни другое. – Мужчина скрестил на груди руки. – Спасибо, никак не могу. На работе ни капли, это закон.
– Рауф Алиевич метрдотель, – пояснил Армен и представил нас.
– Очень приятно, – вежливо склонил голову метрдотель. – Посмотрите, ни одного свободного места. И так постоянно. Но для вас, имейте в виду, местечко всегда найдётся. Милости просим.
Не дожидаясь, пока Армен рассчитается, мы вдвоём с Реной спустились на первый этаж и вышли на улицу, освещённую яркими неоновыми огнями.
На выстроившихся друг за другом такси горели зелёные лампочки.
Чуть поодаль за прибрежным парком виднелось море; оно переливалось, куда ни глянь, отсветами луны и звёзд. Громкоговорители приглашали на прогулку, кружилась карусель, детские смех и возгласы сносило вдаль ветром, они, тем не менее, возвращались и слышались отчётливо, совсем рядом.
– Вам случайно не холодно? – я потянулся снять пиджак. Рена благодарно покачала головой.
– Нет, нет, спасибо, – сказала она, провожая взглядом прогулочный катер, направлявшийся к острову Наргин; оттуда доносилась музыка, и порывы ветра то заглушали её, то приближали.
Столпившиеся у машин таксисты с явным интересом уставились на Рену. Мне это не понравилось, и, взяв девушку под руку, я подвёл её к первой в очереди машине и открыл дверцу.
– Довезём в целости и сохранности до самого дома. – Усадил её на заднее сиденье, сам сел рядом с водителем.
– Нет, это ни к чему, – возразила Рена, коснувшись моего плеча. – Брат обычно встречает меня на остановке. Пожалуйста, лучше до метро.
Водитель уже сидел за рулём. Я попросил его чуточку повременить. Армен торопливо сбегал по лестнице.
Возле станции метро рядом с горсоветом мы проводили Рену до вестибюля, ещё раз договорились, что завтра Армен позвонит Рене и мне, и мы вместе пойдём в «Гюлистан». Рена зашла в метро, у эскалатора обернулась и помахала нам на прощанье рукой.
Армен остановил такси.
– Эта тронутая ждёт меня дома, – доложил он. – Продиктовала мне адрес и номер телефона. Предупредила, если, мол, опоздаешь, я повешусь.
– Ступай, – засмеялся я. – И прихвати на всякий случай верёвку. Вдруг опоздаешь, а у неё своей не найдётся.
Армен открыл дверцу такси.
– Садись, подвезу.
– Да мне тут два шага. Лучше пешочком. До завтра.
Машина тронулась, но, не проехав и ста метров, остановилась и с включёнными красными огоньками сзади покатила вспять.
– Не займёшь мне денег, – сказал Армен, выйдя из машины, – рублей пятнадцать–двадцать?
– Конечно.
Машина снова сорвалась с места, и я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом.
Я пересёк проспект и зашагал в сторону дома. Шёл медленно, и сердце усиленно билось от чего-то смутного, неуловимого, но влекущего. Что это, не поддавалось ни сколько-нибудь внятно воспринять, ни тем паче определить, однако ж я чувствовал – от этого неведомого и неопределённого мир окрест меня тысячекратно в моих глазах увеличился, случившееся давеча – стало в тысячу крат знаменательней. Рядом со мной проходили парочки, погружённые в себя, я не смотрел на них, но в лёгком своём опьянении полагал, что они непременно счастливы, ну а коли нет, я сам искренне желал им испытать счастье, ибо переживал в эту минуту ту лёгкость и благодать, которую, должно быть, и величают счастьем. Что со мной творилось? Я ни на миг не забывал о Рене, видел перед собой её лицо, губы, глаза, слышал тончайшие модуляции её голоса, прелестную шею, от которой, как от едва-едва распускающей розы, тянуло благоуханьем. Боже ж ты мой, неужели я так вот сразу взял и влюбился? Сам себе дивясь, я несколько натужно иронизировал над собой. И было из-за чего. Ведь ещё утром я знать не знал о существовании этой девушки, теперь же одна лишь мысль о ней доставляла мне ни с чем не сравнимую радость. Хотелось взять себя в руки, прогнать прочь эти выбивающие почву из-под ног мысли, занять ум чем-нибудь иным. Однако не получалось. Я завидовал Армену, но без особого надрыва, просто жалел, что не мне, а ему повезло познакомиться со столь удивительной девушкой. Надо выкинуть её из головы, приказывал я себе, выкинуть, и всё тут, это ведь, как ни крути, не очень-то прилично: неотступно думать о той, на кого, судя по всему, Армен имел самые серьёзные виды; к слову сказать, это ведь он и привёл её ко мне. Но ни по дороге, ни дома никакая другая мысль просто не лезла в голову, я сызнова видел перед собой Рену. И, вспоминая, какова она, нервничал и сходил с ума, как юнец. Этот её застенчивый и внимательный взгляд, и влажный блеск зубов сквозь полуоткрытые губы дивной лепки, и обжигающее прикосновение холодных пальцев… Одним словом, голова шла кругом. Под звуки классической музыки приятно было думать и вспоминать, вспоминать и думать. И ночью, во сне, я снова был с Реной, с увлечением обнимал её, лепетал что-то насчёт единственной и неповторимой любви, целовал и не верил этому, подсознательно чувствуя и отдавая себе отчёт, что дело-то происходит отнюдь не наяву, а наяву такое вряд ли произойдёт. И всё равно, дух у меня перехватывало мальчишеским упоением и восторгом.
*******
Меня разбудил телефонный звонок. Под впечатлением сна я ринулся к аппарату, почему-то вообразив, что это Рена. Но звонила вовсе не Рена, а мать из Сумгаита. И меня пронзило чувство острого стыда, поскольку моё воодушевление погасло, как огонь на ветру. Мама беспокоилась из-за того, что вечером я вопреки договорённости не поехал домой и что до меня понапрасну пыталась дозвониться сестра из Ставрополя.
Я объяснил, что принимал гостя из Еревана, и пообещал непременно появиться в пятницу.
Умылся, обошёлся лёгким завтраком и принялся готовиться к вечерней встрече. Как девица, вертелся перед зеркалом, меняя наряды и подбирая галстук. В конце концов остановился на чёрном костюме, голубой рубашке и бежевом с фиолетовым отливом галстуке. Из одеколонов предпочёл «Дракар», подаренный мне в ознаменование 23 февраля Ариной и пришедшийся как нельзя более впору.
В полдень позвонил Армен.
– Ну как ты? – осведомился я. – Маргарита не повесилась?
– Ещё как повесилась, – ответил Армен. – Аж до утра провисела у меня на шее. Дело вот в чём. Я пошёл за билетами в кино, да надел не те брюки, деньги остались дома. Только сейчас обнаружил. Не знаю, как и быть. Надумал, пока суд да дело, сходить с Реной в кино.
– Зайди, что-нибудь придумаем, – сказал я. Должно быть, он вчера здорово поиздержался, мелькнуло у меня в голове. – Адрес не забыл?
– Да ты что! – бодро сказал он. – Шутишь?
– Вот и славно. Заходи, выпьем кофе.
Армен пришёл через полчаса.
– Двадцати пяти рублей достаточно?
– Более чем, – ответил он. – Спасибо, Лео-джан, выручил. Ты настоящий друг. Я этого не забуду.
Он побрился, мы выпили кофе. Проводив Армена, я беспокойно расхаживал, то и дело поглядывал на часы. А время, как на зло, двигалось вперёд медленно-медленно. Чтобы скоротать хотя бы час, я попробовал заняться чтением, но из этой затеи ничего путного не вышло, один и тот же абзац я перечитывал по нескольку раз и мало что понимал. Мысли были неотлучно заняты Реной.
Зазвонил телефон. Наконец-то! Сердце забилось учащённо. Волнуясь, я поднял трубку.
– Алло.
– Здравствуйте, Лео, это вы?
Голос незнакомый.
– Здравствуйте. Да, я.
– С вами говорит Рауф Алиевич из «Нового интуриста». У вас всё благополучно?
– Благодарю. Вчера всё было замечательно, вечер удался.
– Очень рад. Мы стараемся всячески угодить гостям. Приходите ещё. Но видите ли… – Он замялся, потом выпалил: – Вы вчера ушли, не расплатившись…
– То есть как? – обомлел я. – Быть этого не может.
– Мы долго думали… хотели даже сами скинуться, но сумма слишком уж велика. Сами понимаете, триста рублей…
Последовала долгая пауза. Я слов не находил от изумления, собеседник же терпеливо дожидался моего ответа.
– До которого часа вы пробудете на работе? – наконец спросил я, всё ещё не в силах переварить услышанное.
– Вы могли бы прийти завтра?
– Да, конечно.
– Приходите, пожалуйста, часам к пяти–шести, я буду вас ждать.
Это было странно, чрезвычайно странно. Не лезло ни в какие рамки. Я помнил, Армен несколько раз отлучался, пропадал из зала. Может, он договорился с кем-то, а этот кто-то запаздывал? Как бы то ни было, в голове новость не укладывалась. Это ведь Армен зазывал нас, а мы отнекивались, а не наоборот. Это ведь он специально ходил, чтобы рассчитаться, а мы с Реной поджидали его внизу. И потом… откуда метрдотель узнал номер моего телефона? Неужели позвонил в комитет? В мозгу, не давая по-настоящему опомниться, мелькали самые разношёрстные мысли.
Около четырёх дня снова позвонил Армен. Я ни словом не обмолвился про звонок Рауфа Алиевича; сослался на неотложное дело и предупредил, что наша с ним встреча не состоится.
– Значит, завтра? – спросил Армен.
– Завтра, – сказал я и положил трубку.
Но завтра Армен не позвонил. Те же разношёрстные мысли сызнова не давали мне покоя. Я вспомнил, что телефон Рены у меня зафиксирован. Да, вот он – 92-69-98. Я неуверенно набрал 9, 2, 6, 9 и мгновенье поколебался, набирать ли последнюю цифру. Сердце отчаянно колотилось. Наконец я набрал-таки заключительную восьмёрку. На той стороне провода трубку сразу же сняли.
– Алло.
– Алло, – нетвёрдо выговорил я.
– Здравствуйте, Лео, – произнёс грудной мелодичный голос.
Странная штука, раз уж тебе нравится человек, то и голос его тоже нравится. Слава Богу, она узнала меня, и вообще впечатление такое, будто она ждала моего звонка. Как же мало нужно человеку для счастья – эта довольно банальная мудрость оказалась абсолютно справедливой. Я в мгновение ока забыл Армена, ресторанный долг и вообще всю эту невразумительную историю.
– Здравствуйте, Рена. – Как и в пятницу в редакции, я непроизвольно поднялся на ноги. – Как поживаете?
– Хорошо. А вы?
– Благодарю. У меня тоже всё хорошо. Рена, я хотел бы повидаться с вами по важному делу. Это возможно?
– Ну конечно. Где и когда?
– У метро «Баксовет». В пять.
– Договорились. В пять я буду.
– Спасибо.
Минуты две я ходил по комнате с телефоном в руке, мне чудилось, он ещё хранит дыхание и голос Рены. Что ни говори, у девушки, которую любишь, самый сладостный голосок из всех существующих. Так что же выходит, я её люблю?
*******
На Рене была бирюзового цвета блузка, шею украшала тонкая золотая цепочка, волосы, как и позавчера, небрежно падали на плечи. Ещё стоя на эскалаторе, она дружески мне улыбнулась; в улыбке мне померещилось что-то колдовское, по крайней мере на меня Ренино колдовство магическим образом действовало, как и матовый блеск и сияющая свежесть её припухлых губ.
– Привет! – Рена протянула мне руку; я с радостью отметил, что девушка не спешит отдёрнуть её. – Давно ждёте?
– Только что подошёл, – сказал я, хотя минут уже пятнадцать околачивался в вестибюле, тщетно выискивая её в непрестанном людском потоке.
Мы вышли на улицу. Погода стояла погожая, приятная.
– Армен вчера собирался с вами в кино, – сказал я. – Хорошая была картина?
– В кино? Вчера? Вчера был день моего рождения, мне исполнилось девятнадцать, – удивилась Рена и покраснела. Я понял, что слова про день рождения случайно у неё вырвались. – Я весь день провела дома, – добавила она как-то неуверенно, – никуда не ходила. И Армен мне не звонил. Да и не мог позвонить, он же не знает моего телефона.
Я совершенно запутался.
– Поздравляю вас от всего сердца, хоть и с опозданием!
Она смущённо меня поблагодарила.
– Помните, у нас был разговор о ресторане «Гюлистан». Армен должен был условиться с вами и перезвонить мне. На что ж он рассчитывал, если не знал вашего номера?
– Видимо, собирался взять его в последнюю минуту. Но не вышло.
Возникла пауза.
– Простите, Рена, за бестактный вопрос. Давно вы знакомы с Арменом?
В глазах у девушки выразилось явственное недоумение.
– Я видела его всего дважды, и оба раза по чистой случайности. Впервые здесь, у метро, несколько месяцев назад. Я шла из публичной библиотеки, он спросил, как пройти куда-то, я объяснила. А позавчера я заглянула позвонить на почту – первый этаж вашего здания. Он тоже куда-то звонил, опять поинтересовался чем-то. Потом упросил подняться в редакцию – мол, у вас день рождения, и вам будет приятно, если вас поздравят двое. Он очень просил, сама не знаю, что на меня нашло, но я согласилась на минутку подняться. Вот, собственно, и всё наше знакомство.
Точь-в-точь избавившись от ноши, я свободно вздохнул.
– И весь этот сыр-бор – день рождения, предварительный день рождения – был, конечно же, выдумкой. – Рена широко улыбнулась; было видно, что она в этом ничуть не сомневается. – Разве не так?
– Ну… – я увернулся от прямого ответа. – Значит, у Армена не было вашего номера?
– Конечно, нет.
– Занятно.
– По правде говоря, от вашего звонка я тоже была в некоторой растерянности. Так и не поняла, вы-то мой телефон откуда узнали.
– Не скажу, – интригующе заявил я, но не стал интриговать. – Помните, вы позвонили домой с моего радиотелефона?
– Помню.
– Радиотелефон имеет обыкновение фиксировать номера, по которым звонит. Вот что такое техника!
– Ах вот оно что, – рассмеялась Рена. И, подняв на меня бирюзовые свои глаза, поинтересовалась: – О каком важном деле вы говорили?
– Позавчера мы ушли из ресторана, не расплатившись.
– Да что вы! – Рена даже отпрянула; прижала ладони к щекам и, сама не своя, воскликнула: – Не может быть!
– Вы помните метрдотеля, Рауфа Алиевича? Того, кому Армен нас представил. Так вот он мне позвонил в этой связи.
– Какой стыд… – Рена была не в силах унять эмоции. – Как же нам быть?
– Метрдотель ждёт нас.
– Минутку, – растерялась Рена. Губы у неё шевелились, будто она производила про себя какие-то подсчёты. – Я не могу сказать этого папе, маме тоже, брату тем паче. А вот невестке, жене брата, могу. Ирада поможет. И, кстати, моя стипендия за два месяца при мне…
– Да успокойтесь вы, ничего не надо. – Её тревога растрогала меня. – Пойдёмте.
– А без меня нельзя? – Голос девушки звучал умоляюще.
– Чего нельзя, того нельзя. Не то и толковать было бы не о чем, – Я говорил решительно, и Рена сдалась. Взял её под руку и быстро, чтоб она не передумала, повёл к стоянке такси.
*******
Рауф Алиевич встретил нас уважительно и с достоинством. Подобного в моей практике ещё не бывало, сокрушённо признался он, то есть изредка случались инциденты, не без того, но чтобы такие почтенные гости ушли, не расплатившись, от этого Бог миловал.
Мы не пошли в Восточный зал, устроились в Зеркальном, у окна, местечко Рене приглянулось. Оркестрантов на сцене пока что не было, на стульях лежали инструменты: на одном саксофон, на другом труба, на третьем тромбон; контрабас в футляре прислонили к стене. Музыканты уже подошли и, в полном сборе стояли подле сцены, переговаривались и время от времени окидывали взглядами зал.
Рене я заказал полусладкого шампанского, себе коньяку. Нас обслуживала бледная худенькая, но привлекательная с виду русская девушка; любое пожелание она выполняла с такой готовностью, словно это доставляло ей неслыханное удовольствие.
Перед стойкой бара восседали на высоких стульях две девицы с длиннющими ногами; про такие говорят – они начинаются от плеч. Потягивая через яркие соломки джин с тоником и долькой лимона, девицы регулярно присматривались оценивающими взглядами к мужчинам в зале.
Обстановка царила приятная, музыка звучала негромкая, ненавязчивая. Вдобавок мне льстило, что все, кто сидел за столиками по соседству, заметили мою спутницу и не упускали повода лишний раз оглянуться на неё. Мы же с Реной оживлённо говорили о том о сём, я что-то рассказывал, она что-то рассказывала… И мало-помалу тесное наше общение стало буквально сводить меня с ума, с каждой минутой девушка всё сильней очаровывала меня. Между прочим, она умела слушать и реагировала на услышанное всегда впопад – смеялась, хмурилась.
И тут я с изумлением увидел Армена – длинное стенное зеркало напротив отражало его. Беспечно и неторопливо с сигаретой во рту он поднимался на второй этаж. Позавчера не заплатил по счёту, теперь явился закрыть долг, подумалось мне. Обернувшись, я помахал ему рукой, он, однако, меня не заметил. Девицы у бара были, похоже, знакомы с ним. Он, во всяком случае, им улыбнулся. И в ту же секунду блуждающий его взгляд упал на нас с Реной. Армен всплеснул руками и направился к нам.
– Ну и встреча! С утра звоню, звоню, всё без толку, а вы вон где. Что пьёте? – он оглядел стол. – Шампанское, коньяк. А как насчёт водки? – Сел в свободное кресло и не забыл сделать Рене комплимент: – Вы, как всегда, восхитительны. Хотите новый анекдот? Идёт по улице девушка, следом за ней парень. Куда она, туда и он. Идут, идут. Она поворачивается и спрашивает: зачем вы меня преследуете? «Едва вы повернулись, я и сам подумал: зачем?»
Мы вежливо улыбнулись. Я подозвал официантку, заказал Армену водки. Что он мне звонил, я, конечно, не поверил. Однако промолчал. Умолчал и об истории с неоплаченным счётом. И сделал знак подошедшему на минутку Рауфу Алиевичу – не надо про это. Метрдотель понял и согласно кивнул. Армен между тем произнёс необычный тост:
– Пусть грядущий день принесёт нам мир, – сказал он, затем что-то вспомнил и задумчиво добавил: – Есть у меня приятель, азербайджанец родом из Грузии, собственно, никакой он мне не приятель, мы с ним только-только познакомились, да это неважно. Есть у него кое-какие связи в криминальном мире, вдобавок он приходится роднёй вашему Гасану Гасанову, секретарю ЦК. Так вот, по его словам, идёт молва, дескать, уголовников из тюрем выпускают. Обо всем мне он не говорит, но я вижу, чувствую, что готовится что-то плохое. Каждую субботу и воскресенье в здании филармонии проходят тайные совещания во главе с этим самым Гасановым… Пусть грядущий день принесёт нам мир, – тем же задумчивом видом продолжил он свой тост,- и пусть люди не останутся без крыши над головой, и пусть нам не дано будет услышать плач и причитания по безвременным утратам. – Он взглянул на часы и, вставая с места, сказал: простите, мне предстоит встреча у метро «26 комиссаров». Минут через десять–пятнадцать я вернусь.
Тост Армена и в самом деле прозвучал необычно и странно, однако подумалось, что все это пустые разговоры. Мы его, правда, сразу же забыли, но в дальнейшем я частенько вспоминал зловещие эти слова Армена.. После его ухода мне бросилось в глаза, что девицы у бара тоже исчезли. Их вытянутые кверху стаканы с едва ли наполовину выпитым джином остались на стойке.
Мы с Реной немного потанцевали. Меня снова приятно взволновала её робость и смущение, и щекотка от прикосновения её волос к моему подбородку, и хрупкое тепло её тела под моими ладонями, и лёгкая поступь в танце, и её радость, и то, как она, дуя на спадавшую на лоб и мешавшую ей золотистую прядь, дружески на меня смотрела.
Армен же так и не пришёл. Мы прождали и пятнадцать обещанных минут, и час, и два; напрасно.
– Его нет, – зафиксировал я, в очередной раз поглядев на освещённое люстрой зеркало – в нём отражался весь лестничный пролёт вплоть до первого этажа. Видно, в моём голосе не было и тени сожаления; Рена обратила на это внимание.
– А тебе хочется, чтоб он вернулся?
– Нет.
– Почему?
– А тебе? – тоже перейдя на ты, вопросом на вопрос ответил я.
Рена покачала головой, привычным движением убрала волосы со лба. С ответом она не спешила.
– Нет.
– И почему же?
Я положил на её руку ладонь. Она руку не убрала.
– Потому что ты этого не хочешь.
Я ласкал её пальцы своими, и она не отнимала руки, потом её рука повернулась в моей ладони, и наши пальцы переплелись. Меня охватило волнение, сердце тревожно затрепетало и наполнилось необъятной любовью и умилением. Я прильнул губами к её длинным, нежным, чудным пальцам
– Рена, – с замирающим сердцем взволнованно шепнул я, – хочу, чтобы ты поверила – нынче самый славный, самый красивый, самый удивительный и счастливый день в моей жизни. Ты веришь?
– Верю, – сказала она, и её губы запылали, как никогда прежде. – Я хочу, – продолжила Рена дрогнувшим голосом, – хочу, чтоб этот день был первым и чтобы таким же стал последующий и все прочие дни. А сейчас пойдём, уже поздно.
Я поблагодарил официантку за чудесный вечер, не забыв при этом незаметно положить ей в карман красную купюру, рассчитался также с метрдотелем за позавчерашний вечер, и мы с Реной спустились на первый этаж.
Внизу, тщательно, выбирая по одной, я купил у цветочницы девятнадцать белых голландских роз на длинных стеблях, одна другой краше, и поднёс Рене, за что она была безмерно благодарна. Растроганная и взволнованная, она прикоснулась тёплыми своими губами к моей щеке, отчего я застыл на миг как вкопанный.
Как и в прошлый раз, Рена воспротивилась, чтобы я провожал её до дому, и мы расстались у метро. Напоследок она шепнула мне:
– Я хочу, Лео, чтобы ты поверил – этот день тоже останется для меня бесконечно счастливым и незабываемым…
Рена уже затерялась в вестибюле метро, а я всё еще стоял, словно не в силах шевельнуться: опьяняя, она словно всё ещё была рядом, и я чувствовал её тёплое дыхание, слышал пленительный голос, улавливал обольстительное благоухание и лёгкое прикосновение к своему лицу мягких её волос…
*******
С планёрки я вышел в дурном настроении. Ехать в командировку вовсе не хотелось, но и отказать главному в просьбе я тоже не мог – не признаваться же, что влюбился как мальчишка, до полного безрассудства, жажду быть в городе, чтобы лишний раз увидеть её, мою красавицу с совершенным обликом и голосом, чьи мелодические переливы пьянят меня? Сказать, что не видеть этого и не слышать несколько дней – трудно? И ради чего? Ради поездки в Мир-Баширский район, в дальнем уголке которого приютилось уединённое армянское село со странным названием Бегум-Саров, где соорудили памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне сельчан. И сельское руководство позвонило нашему начальству и попросило показать по телевидению церемонию открытия этого памятника. Что мне сказать на это? Пусть едет кто-то другой?
Ради десятиминутной передачи нам вчетвером – редактору, режиссёру, оператору и ведущему – предстояло преодолеть более трехсот километров по дороге, которая до самой Куры тянется по голой, мёртвой пустыне – ни деревца, ни травинки, только наводящая тоску асфальтовая дорога по безжизненной глуши.
Растительность появлялась только по ту сторону Куры. На неоглядных хлопковых полях работали женщины. В закусочных под открытым небом, разбросанных вдоль дороги, мужчины развлекались игрой в нарды да бесконечно пили чай, лениво поглядывая на снующие мимо них автомобили.
Бегум-Саров утопал в деревьях и цветах и казался настоящим райским уголком посреди мёртвой пустыни.
– Сколько труда и умения вложено в эти сады! – расчувствовался оператор Беник, с трудом шагнув из машины на онемелых ногах. – К чему ни приложит руку армянин , сухая земля расцветает. Прежде это село входило в Мартакертский район, потом его переподчинили азербайджанскому Мир-Баширу. В девятьсот пятом, в пору резни, его уничтожили дотла, нынче здесь опять райские кущи. Армянину на роду написано превращать пустошь в цветник.
Я надеялся, что мы за день управимся со своим заданием, однако не тут-то было. Мы сильно задержались и вернулись домой только в четверг, ближе к вечеру. Весь обратный путь я воображал, как тут же кинусь к телефону, но по приезде заколебался и в конце концов передумал звонить. Рена ведь ничего не сказала на этот счёт при расставании. Получится, будто я навязываюсь, удобно ли?
В редакции перекинулся двумя словами с шефом. Тот рассказал анекдот. Приезжает мужик из командировки, а на его кровати торчат из-под одеяла мужские ноги. «Кто это?» – спрашивает у жены. «Кто-кто? – напускается на него жена. – Сколько я тебя просила шубу купить, ты купил? А он купил. Ты меня на море хоть разок свозил? А он повёз. Плюс дача, машина, они ведь не с неба свалились. Теперь ещё на квартиру денег дать собирается». «Коли такое дело, – говорит муж, – укрой ему ноги, не дай Бог простудится».
Я собрался было распрощаться, главный спросил:
– Кофе выпьешь?
– Давай.
Главный обратился по селектору к Арине:
– Приготовишь Лео чашку кофе?
– С удовольствием, – отозвалась Арина; в её голосе слышались восторженные нотки. Главный многозначительно хмыкнул.
Через несколько минут, похожая на красотку с полотна Жана Лиотара «Шоколадница», с подносом в руках Арина торжественно вплыла в кабинет, приветствуя меня лукавым взглядом.
Ответив на приветствие, я попросил:
– Арина, принеси, пожалуйста, газеты за последние два-три дня.
Кофе получился на славу, выпил я его с наслаждением.
– Вот спасибо! – Я поднялся. – Усталость как рукой сняло.
– Между прочим, приехал Леонид Гурунц. Сидит у Лоранны. Когда-то он работал здесь в русской редакции. Видел его? – спросил главный.
– Нет.
Заглядывая во все кряду двери, я направился к себе в кабинет. Было душно. Ослабил узел галстука, включил кондиционер. Уселся за стол. Покосился на телефон. И окончательно решил не звонить.
– Привет! – снова поздоровалась Арина, входя в кабинет, и положила передо мной газеты. – Вы задержались. Мы тебя заждались.
Она присела напротив меня в обычной своей позе – уставив локти в стол и подперев ладонью щёку; в уголках губ играла чуть различимая усмешка, как у женщин на скульптурах Антонио Кановы.
– Мне было любопытно, смогу я тебя простить?
– Меня? – Она с удивлением ткнула себя рукой в грудь.
– Тебя, тебя, – с шутливой строгостью подтвердил я и вдруг вспомнил: об Авике Исаакяне я говорил ей одной. Забыл уже, в связи с чем. Ах да, зашла как-то речь о Берии, вот я и сказал, что Авик, университетский мой преподаватель, был женат на его внучке, одновременно приходившейся правнучкой Максиму Горькому. Скорей всего она сболтнула про это Армену, и тот, не будь промах, отрекомендовался приятелем Авика.
– За что?
– Это ведь Армену ты наговорила про Авика Исаакяна?
– Вроде бы… Ну да, он зашёл к главному, потом расспрашивал о тебе – кто ты да что. Вот я и рассказала про Авика Исаакяна. Ну и про внучку Берии. Он, кажется, этого не знал. Да что стряслось-то?
Я коротко поведал о нашем походе в ресторан.
– Армен не появлялся тут в моё отсутствие?
– Нет, – растерянно помотала головой Арина. – Ну и проходимец… А мы-то приняли его за приличного человека. Прости меня, пожалуйста, Лео. Я виновата.
– Да ладно, чёрт с ним. – Приятно было сознавать Аринину искренность и чистоту, но и подтрунивать над её мечтательностью, эмоциональностью и наивностью тоже доставляло мне удовольствие. – А я уж подумал, не заодно ли ты с ним. Теперь вижу что нет.
–Вижу, что нет. Да ты думаешь, что говоришь?! – Арина подскочила на стуле и зарделась, как несправедливо обиженный ребёнок. – Ты соображаешь или нет?
– Да брось, я же шучу. – Трудно было предположить этакую обидчивость. – Шуток не понимаешь? Садись, главный рассказал анекдот. Садись, расскажу.
– Садись, расскажу… – Всё ещё дуясь, Арина снова села напротив меня.
– Преподаватель спрашивает студентку: «Как ваша фамилия?» «Дарбинян», – отвечает та весело. «Что же в этом смешного?» – недоумевает преподаватель. «Я рада, что верно ответила на ваш первый вопрос».
– Главный ничего такого не рассказывал, – успокоившись, говорит Арина. – Ты сам это на ходу сочинил. Неплохой анекдот, остроумный, – похвалила она. – Но тебе, похоже, невдомёк – я окончила институт с отличием.
– Разумеется. Не то тебе не дали бы золотой медали.
– Эх ты, не стыдно смеяться над пожилым человеком. – Арина, гримасничая, передразнила меня: – «Может, не институт, а университет?» А он-то дома гордится, какой у него родственник отзывчивый. Кстати, он опять к тебе собирается, мой свёкор.
– Что, передумал и хочет изгнать тебя с работы?
– Наоборот. Рассчитывает, что ты и другую сноху поможешь куда-нибудь пристроить.
– Минутку, дай взять ручку. Сколько вас, говоришь, снох?
– Не бойся, всего три, – развеселилась Арина. – При этом один мой деверь всё равно не пустит благоверную работать. Жуть, какой ревнивый.
– И на том спасибо. Всего лишь одна? Это меня радует.
– И я рада, что ты рад.
– Ага, ты рада, что я рад, что ты рада, что я рад.
Арина пришла в восторг от нехитрой этой скороговорки.
– О боже, здесь мне вконец голову заморочат. Словом, устроить надо бы жену старшего деверя.
– Как зовут?
– Сильва.
– Хорошенькая?
– Тебе-то какое дело!
– Надо же знать, кого рекомендуешь.
– На работе кто требуется – хорошенькая или специалист?
– Хорошенькая специалистка.
– Ишь ты какой, за словом в карман не полезешь.
– Лазил бы за словом в карман, ты бы безработной ходила. Кто твоя Сильва по специальности? Фамилия, возраст?
– Возраст… С этого б и начинал, – снова надулась Арина. – В общем, она экономический окончила.
– Буквы-то хоть знает?
Арина насупила брови.
– Что за буквы?
– Проехали. Фамилия, имя.
– Фамилия у нас общая – Дарбинян. Дарбинян Сильва, двадцать три года, В октябре двадцать три стукнет.
– У нас в бухгалтерии есть вакансия. Сеидрзаева, главный бухгалтер, мне, надеюсь, не откажет. Позвонить?
– Нет, обожди, – спохватилась Арина. – Надо же сперва поговорить с человеком. Завтра я Сильве скажу, ну а там уж… Это чья? – Она показала глазами на записную книжку в чёрном переплёте, заваленную ворохом бумаг.
– Понятия не имею. Может, Армен забыл? Возьми. Отдашь ему при случае.
Арина встала.
– Пойду, наш мемуарист ждёт меня, не дождётся. Сил уже нет от его воспоминаний. – В дверях обернулась и с невинным личиком доложила: – Между прочим, та девушка приходила.
– Какая такая девушка? – равнодушно спросил я; внутри у меня всё всколыхнулось.
– Какая девушка… Мне-то откуда знать? – испытующе смерила меня взглядом Арина. – Та, которую Армен приводил. Спрашивала тебя.
– Меня? – безразлично кивнул я; это безразличие тяжело мне далось.
– Да, тебя. – Тот же испытующий взгляд. Арина медленно затворила за собой дверь. Я догадался, она пока что не уходит. И лишь спустя минуту, в коридоре хлопнула дверь, и в Арининой комнатке застрекотала пишущая машинка.
Я рывком вскочил с места, дважды повернул ключ в дверном замке. Про себя решил: если трубку снимет не Рена, сыграю в молчанку. Набрал одну за другой пять цифр, а после заключительной восьмёрки попридержал диск и не без сомнения отпустил. Диск прошелестел и замер.
– Алло.
Она!
– Здравствуй, Рена, – хрипло сказал я, силясь унять нервы.
– Привет, Лео. Я дважды заходила в редакцию, не могла тебя застать.
– Мне неожиданно пришлось уехать в командировку, – оправдываясь, я не вникал, уместны ли мои слова. – И всё время думал о тебе.
– Спасибо. – Даже по телефону чувствовалось как она смущённо улыбается в этот миг на том конце провода. – Это приятно. В понедельник ты никуда случайно не уезжаешь?
– Нет, нет, – выпалил я.
– Тогда после занятий я зайду в редакцию. Дождёшься меня?
– Что за вопрос!
Но Рена не клала трубку.
– Твои розы до сих пор не завяли. Все до одной распустились, и комната так и благоухает. – Она помолчала. – Розы напоминают о тебе.
– Люди встречаются друг с другом на перекрестьях множества дорог, – сказал я, – не сознавая, что вся их минувшая жизнь готовила эту встречу.
— Да, так оно, видимо, и есть, – откликнулась Рена. – И невозможно узнать, что ждёт их после неведомых этих перекрёстков.
– Ты очень мне нравишься, Рена, – просто сказал я. – До понедельника.
– До свидания, – сказала Рена, но трубку всё-таки не положила. – Ты тоже… мне симпатичен. Я приду в понедельник, до свиданья.
– Цав’т танем, – внезапно вырвалось у меня.
– Савет танем, – неловко повторила она. – Что это значит?
– Не савет танем, а цав’т танем.
– Цавед танем.
– Нет, цав’т танем.
– Цавет танем? Как это переводится.
– Если буквально, то возьму себе твою боль, унесу твою боль.
– А… агрын алым, – обрадовалась Рена. – Или близко по смыслу: дардын алым, гадан алым. По-азербайджански звучит и точней, и лучше, чем по-русски. – Она засмеялась: – Цавет танем.
Сердце беспорядочно колотилось, и я минуту-другую вышагивал по кабинету, не в силах чем-либо заняться. Мне страшно хотелось поделиться с кем-то новостью – Рена придёт ко мне в понедельник, я день-деньской буду подгонять время и дожидаться, дожидаться. Сказать об этом ужасно хочется, но я знал, что никогда и никому не скажу ни слова.
Из окна на пятом этаже я глянул вниз; одинокое лоховое дерево вытянулось над стеной, огораживающей здание, раскинулось над улицей, которая выходила на ЦК, и развеивало там и тут белую цветочную пыльцу. Над облаками пыльцы порхали пёстрые бабочки; то одна, то другая садилась на цветы, Мне была видна из окна площадь у метро «Баксовет» с её многолюдьем и толчеёй и район старого Баку – Ичери-шехер с высокими толстыми крепостными стенами и пушечными бойницами, с просмолёнными плоскими кровлями, что знай посверкивали под солнцем, с караван-сараями, банями, мечетями и заунывным голосом муэдзина, призывающего правоверных к намазу, с паутиной узких улочек, спускающихся к морю, где стремглав носились над судами на якоре чайки – то одна, то другая стремительно ныряла в воду и стремительно же выныривала. Прежде, когда не возвели ещё нового здания ЦК, из окна открывалась широкая морская панорама, а теперь взгляд выхватывал только малую её частицу. Волны под весенним солнцем сияли и слепили, отражая его лучи. Небо из окна кабинета тоже казалось рассечённым надвое. Разбитый на холме участок парка имени Кирова застил обзор, и чудилось, что высокий памятник этому деятелю с его рукой, указующей на город и море внизу, не стоит на возвышенности, но парит под облаками.
Я вышел в коридор и, свернув налево, заглянул в общий отдел.
Лоранна сидела у себя за столом, а перед ней расположился Леонид Гурунц – бодрого вида человек с улыбчивым лицом и небрежно зачёсанной набок каштановой с проседью шевелюрой.
– Познакомьтесь, Леонид Караханович, – представила меня Лоранна, – это заместитель нашего главного редактора. Родители у него карабахские, но сам он из Сумгаита.
Я знал, разумеется, Гурунца как писателя, читал его книги, особенно сильное впечатление произвела на меня его «Карабахская поэма», пронизанная нежностью, любовью и романтическим настроением.
– Так ты карабахец? – Он с места энергично протянул мне руку. – Ну, скажи: зачем спрашивать? И без того видно – высокий, статный, с изюминкой. Карабахцы, они все такие – рослые, красивые. Баграт Улубабян недаром сказал: не народ, а семенной фонд. Ты женат?
Я отрицательно помотал головой.
– Я в твои годы уже дважды развёлся, а ты даже не женился.
– Времени нету, – подмигнула Лоранна.
– Или вы не даёте ему времени, – рассмеялся Гурунц. – Человек в молодости живёт, чтобы любить. А в зрелые годы любит, чтобы жить. Первая моя жена была сестрой жены поэта Татула Гуряна. Ну а поскольку мы с Татулом были близкими друзьями и женились на двух сёстрах, то и псевдоним решили взять один и тот же: он – Гурян, я – Гурунц. Эх, нет на свете ничего лучше молодости, – вздохнул он, – и дороже тоже нет. Пока человек молод, ему нужны две малости, чтобы чувствовать себя вполне счастливым. Так что покуда молод – улыбайся себе каждый день, ищи вокруг развлечений. Мечтать, улыбаться – вот что человеку необходимо. Как говорится, следуй за мечтой, и там, где прежде стояла глухая стена, перед тобой распахнётся дверь. Стоит человеку бросить мечтать, и он уже почти мёртв… Стареть и взрослеть – это далеко не одно и то же, – заключил Гурунц после паузы. – Коль скоро тебе тридцать и ты целый год проваляешься, ничего не делая, на диване – тебе стукнет тридцать один. Нет ничего проще, чем стать еще на год старше. Для этого вовсе не требуется ни таланта, ни дара. Дарование, талант – это как раз то, что позволит тебе, меняясь, обрести новые горизонты. Попомните, что я говорю вам, и ни о чём не жалейте. Не жалейте того, что протекло вчера, не бойтесь того, что случится завтра, и будьте счастливы нынешним. Люди пожилые редко жалеют о сделанном, они грустят о том, чего не сделали, о том, чего им сделать не удалось или чего они не успели. Так-то вот, – вздохнул Гурунц. – На свете и впрямь нет ничего ни лучше, ни дороже молодости. Молодость, она что твоё золото, горы свернёт и на всё способна. Я, к примеру, свою «Карабахскую поэму» написал именно что молодым. Худо только, что ничего хорошего я из-за неё не видел. Зато горечи вкусил досыта. Это было время, когда сгущалась атмосфера бешеного национализма, известных людей гнали из Баку, из районов республики с ярлыками людей ненадёжных, изгоняли в северный Казахстан или же напрямую в Сибирь, чтобы занять их должности и завладеть комфортным их жильём. Все обрушились на меня, и этот тоже с ними, – Гурунц сделал головой движение, давая понять, что имеет в виду прежнего нашего главного, – то, что в ссылку меня не упекли разве что по счастливой случайности.
Сидя чуть поодаль, Сагумян молча слушал Гурунца и согласно кивал головой. Должно быть, он отчётливо помнил те времена и события.
– А в чём, собственно, вас обвиняли? – спросила Лоранна. – В книге было что-то антисоветское?
– Да в том-то и дело, – махнул рукой Гурунц. – Об антисоветчине и речи не шло. Их взбесило само название. Говорили: «Ты почему именно про Карабах разговор в романе затеял, у нас что, других краёв нету? И всё из-за «Карабахской поэмы», которую никто из них и прочесть-то не удосужился. Исключая, конечно, заглавие. Мне всё это надоело, я возьми и напиши про эти художества в ЦК, Мир-Джафару Багирову. Ночью Багиров звонит редактору газеты на армянском языке «Коммунист» Тиграну Григоряну и требует представить ему книгу, а потом распоряжается напечатать в «Бакинском рабочем» положительный отзыв. Видели бы вы, как юлили, как заискивали передо мной вчерашние гонители, как они передо мной извинялись. Однако ж это благодушие преследовало дальнюю цель. Вскоре в Баку затеяли борьбу с Мариэттой Шагинян, да не на жизнь, а на смерть. Приглашают меня в ЦК – мол, так-то и так-то, поставь свою подпись под статьёй, уже готовой, где Мариэтту Сергеевну смешивают с грязью. Я наотрез отказался. Она, объясняю, для меня всё равно что духовная мать, она первая сказала доброе слово о моих писаниях. «Иди и подумай, – холодно сказали мне. – Мы позовём». Но не позвали. Позвали Маргара Давтяна – уважаемый, достойный человек, депутат Верховного Совета. Был такой порядок – одного из армянских интеллигентов Баку полагалось избрать депутатом. Прежде в депутаты выдвигали артистку Жасмен, в сорок девятом, после того как армянский театр в Баку закрыли, депутатом стал Давтян. Повод подвернулся что надо, прямо по народному присловью – собаки сцепились, нищему повезло, прежний ваш редактор Самвел Григорян им воспользовался. Пошёл в ЦК и, назвав кандидатуру Маргара Давтяна, предал его. Дескать, он прозаик и хороший знаток истории. Ваш прежний – опытный лис. Прекрасно понимал – эта подпись погубит Маргара, и редактором армянского журнала «Гракан Адрбеджан» и депутатом Верховного Совета неизбежно станет он сам, Самвел. Так и вышло. Все республиканские газеты – азербайджанские, русские, армянские – напечатали ту статью за подписью Маргара Давтяна и Тиграна Григоряна. Для Тиграна это значения не имело, в бытность свою секретарём Карабахского обкома он к таким вещам привык, а Маргара эта статейка морально уничтожила. Случилось это тридцать лет назад, и вот уже тридцать лет ваш прежний шеф не расстаётся с депутатским своим значком.
– А то как же, – подтвердил Сагумян, – значок, можно сказать, оплачен кровью, теперь он его не выпустит из рук. У азербайджанцев хорошая поговорка есть: кйор тутугыны брахмаз, то есть, слепец что схватил – не выпустит.
–— Да что толковать, Арутюн, — задумчиво сказал Гурунц в ответ на реплику Сагумяна, — Культ личности после смерти Сталина осудили, Берию и Багирова расстреляли, смотрите, дескать, у нас всё по закону, ведь у нас и конституция есть, и прокуратура, и суд, и правосудие. Всё это будто бы создано, чтобы служить интересам народа. Между тем у гидры взамен отсечённой головы повырастали новые головы, много новых голов. Один из них – первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома Борис Кеворков, наделённый в своей епархии почти такой же неограниченной властью. И как это вытерпеть? – Гурунц перевёл дух и тихо, словно говорил сам с собой, сказал: – Истина, справедливость – они будто бы положены в основу нашей жизни. Покажите мне Бога ради, где вы их видите или видели. Если не вы, то другие. Не вчера, так накануне. Может, они дожидаются за семью печатями, чтобы мы их освободили и вывели на свет?
Двери тихонько отворились, и в комнату с неизменной своей авоськой в руке вошёл наш прежний главный редактор. С клоком седых волос на плешивой уже голове, будто бы приклеенном слева направо, с отвислым подбородком, рыжеватый, маленький, но всё ещё крепкий, он на мгновенье замешкался, повозился с папкой для бумаг и, пристально глядя на Гурунца, молвил:
– Мне Кеворков квартиру дал.
В его словах так и сквозило намеренье подлить масла в огонь.
Гурунц поднял голову и воззрился на него.
– Тебе что, жить было негде? А трёхкомнатная квартира неподалёку от армянской церкви, на бывшей Базарной, ныне улице Гуси Гаджиева? А новая четырёхкомнатная у дома правительства на набережной – её, я слышал, тебе Гейдар Алиев дал?
– Да не здесь, в Степанакерте, – великодушно снизошёл до объяснений прежний. – Чтобы летом ездить и тутой лакомиться. Карабах, он как-никак моя родина, у меня и стихи соответствующие имеются: «Шахасар», «Сингара» и всё такое. Вот, к примеру, только-только сочинил, уже после того, как получил квартиру:
Когда говорят «Карабах»,
Я горы тотчас вспоминаю,
Журчат его речки в ушах,
Ах, камни, я вас вспоминаю…
Горячий в тоныре лаваш,
Прохладу гумна вспоминаю,
Тута наша, край милый наш
Опять и опять вспоминаю.
– И что дальше? – спросил Гурунц.
– Куда ж ещё дальше? – осклабился прежний и шмыгнул носом. – Гимн во славу малой родины. Гимн родной природе. Всё ясней ясного.
– Один мой родственник, он рабочий Карабахского шёлкового комбината, – не глядя на собеседника, с угрожающей вежливостью произнёс Гурунц, – уже восемнадцать лет ютится с семьёй в узком сыром подвале, ждёт очереди на квартиру и гадает через сколько лет она подойдёт. А твой Кеворков даёт тебе квартиру, чтобы ты, видите ли, летом тутой лакомился. Баграт Улубабян Карабаху всю свою жизнь отдал, Богдан Джанян в лагерях из-за Карарабаха сидел, так их ездить туда и то лишили права. Мне, который все свои книжки да и всю свою жизнь ему посвятил, тоже запрещено там показываться. – Гурунц громко втянул в себя воздух. – Из страха перед Кеворковым родичи мои заговорить со мной боятся. Подлая и продажная тварь – вот он кто, твой Кеворков. И пока такие, как он, ещё не перевелись и безнаказанно отравляют атмосферу вокруг, не видать нам ни нормального суда, ни справедливости.
– Прошу тебя, Леонид, не веди при мне такие речи, – протестующе сказал экс и снова шмыгнул носом.
Года два–три назад он точно так же предупредил писателя Сурена Айвазяна. Седоволосый, с располагающим лицом, общительный и словоохотливый, Айвазян раздражённо говорил о Брежневе: «Страна чуть ли не голодает, в магазинах шаром покати, повсюду взятки, мздоимство, грабёж, а он что ни месяц очередной орден на грудь цепляет. Уже и места-то нет, осталось разве что на пупе парочку навесить». Все рассмеялись. Один только прежний насупился, покраснел как рак и произнёс те самые слова: «Прошу тебя, Сурен, не веди при мне таких речей». Айвазян только руками развёл: «Ты, я смотрю, загодя себя подстраховал. Если кто на меня донесёт, и твоё предостережение вспомнит».
Гурунц, однако, сказал нечто совсем иное:
– Больно и досадно, Самвел, что ты за спинами лжекумиров не замечаешь, а верней, не желаешь замечать зло, которое разрастается как снежный ком ежечасно и ежедневно. Разрастается при фарисейском попустительстве тех, кто обязан поставить ему заслон. Заруби себе на носу, от Кеворкова и кеворковых и следа не останется, как следа не осталось от его предшественников – всех этих каракозовых, апуловых, замраевых ,шахназаровых, джамгаровых, зияловых, аслановых. Это же надо, в армянской области ни одной армянской фамилии! Один только Егише Григорян армянскую фамилию носил, да и то потому, что жена была турчанка.
Прежний холодно и надменно смотрел мимо Гурунца и только шмыгал носом. А Леонид Караханович не на шутку разволновался:
– Отчего же так? Ты хоть единожды задумался, что ровно сто восемьдесят лет назад Карабах с его тринадцатью областями и с территорией в одиннадцать с половиной тысяч квадратных километров добровольно вошёл в состав России? Что он собою представлял? А вот что. Свыше пяти тысяч историко-архитектурных памятников с армянскими надписями на них, армянские мелики и армянская история, зафиксированная античными писателями от Геродота и Страбона до Диона Кассия. И что нынче осталось от этой территории? Меньше четырёх с половиной тысяч квадратных километров, от которых то тот, то этот норовят отщипнуть ещё и ещё. Думал ты об этом, я тебя спрашиваю? – заметно побледнев, повысил голос Гурунц. – Почему среди полумиллиона живущих в советском Азербайджане армян нет ни одного композитора, художника, учёного, ни одного республиканского масштаба руководителя, ни одного секретаря или хотя бы завотделом ЦК, ни одного пристойного писателя? Не странно ли, при ненавистном царизме в Баку действовали Армянский национальный совет, и Союз писателей-армян, и армянские благотворительное, человеколюбивое и культурное общества – что же сегодня? Александр Ширванзаде и Иоаннес Иоаннесян прожили здесь едва ли не всю жизнь, зато в советские времена лучшие писатели-армяне – Гарегин Севунц и Амо Сагиян, Ашот Граши и Сурен Айвазян, Аршавир Дарбни, Гарегин Бес, да и я, Леонид Гурунц, всех и не перечесть, – все мы волей-неволей республику покинули. Куда пропали в Баку несколько десятков армянских школ, дома культуры, библиотеки, типографии и, наконец, театр, исправно и бесперебойно радовавший зрителя с 1870 года?
– Тебя послушаешь, здесь нет ни одного стоящего писателя? Я что, тоже не писатель, а? – с яростью возопил экс. – Мой двухтомник напрасно напечатали, звание народного поэта Азербайджана напрасно мне дали?
– Звание народного тебе дали те, кто не может прочесть, что ты там накропал. Это же глупость, а когда правду подменяют глупостью, дело плохо.
– Слава богу, – медленно, весомо, выделяя каждое слово, отчеканил экс, – что не ты и не тебе подобные решают, кого можно, а кого нельзя наградить званием и титулом. Слава богу! – повторил он и двинулся к двери.
– Ступай, ступай! Из всего, что я тут сказал, тебя лишь это и задело, верно? – Гурунц держался спокойно, хотя давалось ему это не без усилий. – Ступай, не ровён час, из распределителя продукты доставят, а тебя дома нет. Обидно! Спецмагазин, спецбольница, спец гостиница, спец оклад и доплаты, спецаптека, спецуборная… Куда ни сунься, всё сплошь спец – от роддома до кладбища. Всё специальное, отдельное от иных-прочих. Народу одно, вам другое. Вроде бы добрались уже до конечной своей цели, построили себе спецкоммунизм: от каждого ноль и каждому по потребностям. А потребности таковы, что на всеобщий коммунизм пока что и не надейся.
Прежний многозначительно смерил Гурунца взглядом с ног до головы. Его зрачки при этом злобно сузились; он, тем не менее, промолчал и, налившись ненавистью и шмыгая носом, удалился. Попрощаться он забыл. Однако через мгновенье дверь открылась опять, и он злорадно бросил:
– Знаешь, Гурунц, кого ты мне напоминаешь? Лису, которая, не дотянувшись до винограда, обзывает его зелёным да незрелым.
Он изо всех сил хлопнул дверью.
Все молчали.
Арина стояла в дверях своей комнатки и молча наблюдала.
– В восемнадцатом году здесь, у него на глазах, турки зарезали его мать и сестру, – наконец-то нарушил молчание Сагумян. – Сам он спрятался под кроватью. Вместо того чтоб описать это, высасывает из пальца невесть что. Тоже мне мемуарист!.. Отправился доносить.
– Ясное дело, – согласился Гурунц и, не в силах успокоиться, продолжил свой монолог: – Где же наша общественность, Арутюн? Взять хотя бы тебя, бывшего командира партизанского соединения. Что ты обо всём этом думаешь? Что думают коммунисты, которые всё знают и понимают, однако помалкивают в тряпочку, а когда надо, рукоплещут мудрому руководству? А ведь мы говорим правильные слова, мол, каждый коммунист, каждый член общества несёт ответственность за всё, что бы ни происходило в стране. В чём она, эта самая ответственность? В том, что никто не хочет лезть на рожон? Или, как сказал Гамлет, благоразумие делает каждого из нас трусом?
– Ты, Леонид, год за годом непрестанно протестуешь, пишешь во все инстанции. Хоть чего-то ты добился? – вмешался Сагумян – Дело в том, что бороться со злоупотреблениями поручают именно тому, кто злоупотребляет. И твои протесты и жалобы переправляют чинуше, на которого ты как раз и жалуешься.
Гурунц ответил не сразу.
– Да, так оно и есть. Молодые не знают, но мы-то с тобой помним, как душили беднягу карабахца, как принуждали его брать неподъёмные займы, а потом, чтобы погасить навязанные эти займы, угоняли с подворья несчастного крестьянина последнюю коровёнку или там овцу, сдёргивали со стены дедовский ещё коврик, потрошили тюфяки с одеялами – забирали шерсть, отнимали швейную машинку, отдирали с кровли жесть, открывая дом всем ветрам и дождям. Жалобы потоком утекали в Москву, но возвращались оттуда в Баку и далее в село, но не затем, чтобы проверить их обоснованность, а чтобы выявить жалобщика и примерно его наказать.
– Всё верно. Правда, она и есть правда, – тяжело закивал головой Сагумян.
– До Кеворкова в Карабахе хозяйничал Володин – одного с ним поля ягода, вымогатель и крупнокалиберный взяточник. Он не намекал, а прямым текстом требовал и посылал служебную машину за данью. Её составляли куры, яйца, мясо, масло, мёд, сыр, хлеб из тоныра, словом, что его душе было угодно, но более всего – тутовая водка. Знаменитой нашей тутовки ему везли по десять и двадцать литров, однажды он превзошёл себя и велел привезти сорок. Был такой Товмасян, председатель колхоза «Кармир гюх» («Красное село»), – тот, было дело, не выдержал и не только послал собирателя дани куда подальше, но и обложил матом самого секретаря обкома и назвал его вдобавок побирушкой. Этого Товмасяну не простили. Бедолагу выставили из партии, сняли с работы и посадили за решётку. Володин как-то по пьяни бахвалился: «Надо будет, я весь Карабах посажу». И правда, сколько невинных людей лишились из-за него свободы, сколько жизней он угробил. Без толку. Да я и сам не раз говорил и писал о преступных его делах – и с тем же результатом. Глас вопиющего в пустыне, не более того. Не помню случая, чтобы партработник или сотрудник правоохранительных органов хотя бы в одном вопросе, хотя бы раз оказался неправ. Это глубоко укоренённый обычай – они правы всегда и во всём, а ты бейся головой о стену, всё равно ничего не докажешь.
Арина принесла Гурунцу чай и несколько конфет в фаянсовом блюдечке. Он с видимым удовольствием отхлебнул крепкого, почти чёрного чаю.
– Выходит, Леонид Караханович, вовсе Наири Зарьян не преувеличил, когда воскликнул: «Напрасно ты, Севан, бушуешь непрестанно, твою судьбу с моей решают океаны»?
Гурунц дружески положил руку на плечо Лоранны, с горечью усмехнулся.
– Последнее деление Армении было запланировано на лето тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Это открылось во время суда над Багировым, который руководил республикой ровно двадцать лет.. Перекрестным допросом председателя военного трибунала Руденко выяснилось, что Багиров намеревался Дагестан присоединить к Азербайджану, а так же он сам, то есть Багиров, Берия и Сталин должны были летом 1953 года организовать огромную насильственную депортацию армян из Армении, после чего население в Армении стало бы меньше миллиона, чтобы лишиться прав союзной республики. На вопрос Руденко о том, что таким образом Армению должны были разделить между соседями, Багиров без колебаний ответил, что да, однако смерть Сталина помешала осуществлению этой программы. На новый вопрос Руденко о том, в чем была основа, что побудило объединению вашей, Берии и Сталина намерения, Багиров ответил, что Кремлю было выгодно на Востоке, в преддверии мусульманского мира, иметь такой могучей и верной опоры как Азербайджан.
Гурунц промолчал немножко, спросил:
– Вам приходилось видеть одинокое дерево, стоящее чуть поодаль от леса? В погожую ли пору, в непогоду ли оно вечно неспокойно, словно пытается нащупать ветвями что-то вблизи себя. Мне неизменно казалось, что дерево хочет отыскать опору, надёжную поддержку. Хочет и не может. Проходят годы, сменяют одно другое десятилетия, а дерево стоит себе, потрёпанное ветрами, и по-прежнему гнётся, извивается в поисках. Это Карабах, который триста с лишним лет со времён Исраэла Ори и доныне шлёт делегации, взывает о помощи, требует и протестует. А кругом по-прежнему мёртвая тишина и каменное безразличие. Как одинокое дерево, он ищет опору и надёжную поддержку и гнётся, извивается в поисках, потому что до него не доходит – его судьбу и впрямь решают океаны. Ну ладно, хватит, – оборвал себя Гурунц, – вставайте. Всё, что я сегодня наговорил, я давно уже написал. Хотя… кто ж это будет издавать? Не печатают и не напечатают. Подымайтесь, разговорами делу не поможешь
Гурунц взял старенький, вконец выцветший толстый портфель и первым вышел в коридор.
От лифта навстречу нам двигались, беседуя, ведущие, которым предстояло работать на вечерних передачах, а за компанию с ними и редактор отдела детских программ Тельман Карабахлы-Чахальян – человек с двумя десятками волосков на голове, припухлыми веками, отливающими краснотой вечно бегающими глазками и сморщенными губами. Лет за пятьдесят, абсолютно бледный и при жёлтом галстуке, он производил впечатление пусть и не полного, но несомненного безумия. Приделай ему тонкие усики с подкрученными кверху концами – и вот он, Сальвадор Дали, собственной персоной.
– Мы на работу, а вы с работы! – Своё философическое умозаключение Тельман изложил на колоритнейшем карабахском наречии, ни капли не сомневаясь, будто изъясняется образцовым литературным языком, и, не здороваясь, прошествовал дальше.
Детство этого самого Карабахлы-Чахальяна прошло в городе Барда, мать его с двумя детьми-малолетками вышла за азербайджанца, образование он получил азербайджанское, окончил юридический факультет университета, поговаривали, что даже проработал несколько месяцев прокурором в отдалённом районе. Затем устроился в одной из азербайджанских редакций на телевидении, а после того как появились армянские телепередачи, его перевели в нашу редакцию. Но как он умудрился закончить университет и как работал до перехода к нам, вообразить было немыслимо; над двумя-тремя страничками детской передачи он страдальчески корпел по две недели, и оставалось неразрешимой загадкой, чего ради прежний главный привёл его в армянскую редакцию. То ли его заставили сделать это в КГБ, то ли в ЦК; как бы то ни было, Тельман уже несколько лет подвизался на новой должности и палец о палец не ударял. Про него наши парни придумали анекдот, порядком насмешивший Гурунца. Будто бы мать взяла Тельмана за руку и повела, как Гикора в туманяновском рассказе, устраиваться на работу к редактору армяноязычной газеты «Коммунист» Гегаму Барсеговичу Антелепяну. «Он хоть буквы-то знает?» – интересуется Антелепян, происходивший из западных армян. «Да что ты, родненький, – отвечает мать, – знал бы, я б его не к тебе повела, а в “Бакинский рабочий”».
Новый главный тоже не хотел с ним связываться. Как-то раз на заседании коллегии зашла речь о безделье Тельмана. Главного разговор очевидным образом огорчил, он провёл по лицу ладонью, словно сбрасывая с себя тяжкую обузу, отвёл глаза в сторону и сказал, как отрезал: «Считайте, что эта тема закрыта. Убедительно вас прошу больше к ней не возвращаться». А мне, разоткровенничавшись, признался: «Ну, не могу я его снять, это выше моих сил».
Втроём – Гурунц, Сагумян и я – мы спустились на лифте вниз и вышли на улицу.
Стоял ясный весенний день, солнце пригревало приятно и не жарко, в тени толстенных лип компания молодёжи попивала чай, с ленцой оглядывая прохожих и нескончаемый поток машин на проспекте, а в глубине парка, под высокой стеной Ичери-шехер ватага школьников наслаждалась в открытом кафе мороженым, оглашая округу беззаботным смехом.
– Он обязан редактировать чужие материалы, но, понятное дело, не редактирует. Ему это не по зубам, – подал Сагумян реплику в адрес Карабахлы-Чахальяна. – Мало того, кому-то приходится переводить, приводить в божеский вид и готовить весь тот детский лепет, который он там и сям уворовал. Он же должен получать ежемесячный свой гонорар!
– Это тоже показатель того, как относятся к нашему народу, – сделал вывод Гурунц. – Относятся, как видите, пренебрежительно. В телерадиокомитете десятки редакций, неужели нельзя было пристроить его куда-нибудь?
– Да ведь он азербайджанских-то букв тоже не знает, – отшутился Сагумян, – кто же станет его держать! Их в отделе двое, он и Геворг Атаджанян, которого ты час назад охарактеризовал. Тот ещё тип, всем недовольный, сварливый. Ну, два сапога пара, целый день они грызутся. Геворг был корректором в литературном журнале «Гракан Адрбеджан», его оттуда попёрли, а мы взяли и влипли.
-А знаете, что в царское время, еще задолго до царского времени , здесь, на месте станции метро «Баксовет», начиная от здания нынешней филармонии до центрального универмага, были русско-армянское кладбище и величественная цервовь, построенную царём Вачаганом, где в 1806 году армяне отпевали выброшенное в мусорный бак обезглавленное тело генерала Цицианова, убитого Бакинским ханом. – Гурунц повернулся и, стоя на залитом солнцем тротуаре, долго и пристально вглядывался в здание, где располагалась редакция, в который уже раз оценивая соразмерность и гармоничность его частей, сводчатые окна, украшенные резьбой стены, барельефы.- Жизнь – это мгновенье между будущим и минувшим, не больше того, – запустив пальцы в непокорную густую шевелюру, сформулировал он, о чём думал, и его лицо выразило глубокое сожаление. – Знаете, в чём очарование молодости, её тайна? Мне сдаётся, не в том, что перед тобой шанс и перспектива всё на свете сделать, а в том, что ты думаешь – я всё сделаю. Человек живёт мечтами. Молодому хочется жить и радоваться, хотя молодость, она сама по себе уже радость, зрелому хочется жить в довольстве и комфорте, старику хочется лишь одного – жить подольше. Помню как сегодня – ты молод, всё впереди, ты летишь сломя голову вверх-вниз по этим лестницам. А нынче каменные ступени стёрлись, точно сама жизнь. Я проработал здесь ни мало ни много восемь лет, ещё не было телевидения, служил я в редакции русских радиопередач. Вообще передачи велись поровну на трёх языках – армянском, русском и азербайджанском, председателем радиокомитета был армянин по фамилии Ованнисян, был и секретарь ЦК армянин, если не ошибаюсь, Арушанов. А до Багирова, между прочим, после Кирова первым секретарём ЦК был Левон Мирзоян, родом из карабахской деревни Ашан. Его на этом посту тоже армянин заменил- Рубен Гукасович Рубенов. В тридцать седьмом году угробили их Берия с Багировым. А знаешь, чей это дом?
– А то нет! – Сагумян, похоже, даже обиделся. – Таких вещей наш Лео может не знать, а мне сам Бог велел. Дом этот принадлежал братьям Мирзабекянам, и в нём насчитывается девятьсот девяносто девять комнат. Помимо нашего комитета, здесь расположены десятки учреждений, включая прокуратуру, министерства, проектные институты. Проще сказать, чего здесь нет. И, кстати, все тринадцать зданий в этом ряду, одно другого краше, принадлежали в своё время армянам – Будагянам, Шахгельдянам, Тер-Акоповым… А вот это – дом Тумянянов, следующий – тер-гукасовский, вплоть до пятьдесят третьего года в нём жил Багиров, а сейчас его отдали под картинную галерею. А дом у моря, ниже по этой же улице, где сейчас правление «Азнефти», он принадлежал карабахцу Арамянцу. Ещё дальше стояла управа армянских приходских школ. А если идти к Баксовету по нынешней улице Горького (прежде она звалась Армянской), там один за другим красовались армянское человеколюбивое общество, армянская церковь и особняк Манташева. Да, Манташев… Это ведь он на свои средства выстроил от Баку до Батума нефтепровод протяжённостью 835 километров. До революции сотнями бакинских домов, среди них и нынешние филармония имени Магомаева и театр оперы и балета имени Ахундова, владели армяне. Говорят, Габриэл Тер-Гукасов попросил архитектора Тер-Микелова так спроектировать помещение, где ныне летний зал филармонии, чтобы, сидя за чашкой чая на балконе своего особняка, что чуть поодаль, он слушал бы музыку. Это и называют иронией судьбы. Потому что в дальнейшем его палач Мир-Джафар Багиров так именно и поступал – распивал чаи на балконе тер-гукасяновского дома и наслаждался музыкой, доносившейся из построенного Тер-Гукасовым мраморного зала. Видишь вон то великолепное здание напротив филармонии? Его тоже построил архитектор Тер-Микелов. В тридцатые годы в нём находился ЦК, руководимый всё тем же Багировым.
– Всё так и было, – подвёл итоги Гурунц. – В пятом и восемнадцатом годах вырезали тех, кто построил эти дома и кому они принадлежали, и завладели всем имуществом убитых: заводами, фабриками, магазинами, конторами. – Голос Гурунца надломился. – А тех, кто чудом уцелел, расстреляли по указке Багирова и Берии либо сплавили в Сибирь на погибель. Вернуться никому не довелось.
Всю дорогу до метро мы молчали.
Ну и ну! — вдруг ахнул Гурунц. — Сколько лет я его не видел, а он ни чуточки не переменился…
Мы невольно проследили за взглядом Гурунца. К нам на диво энергичным шагом направлялся высокий, слегка сутулый старик.
— Кто такой? Я его не знаю, — прищурившись, полюбопытствовал Сагумян.
— Я только что рассказывал, как армян убирали рукой армян. Вот извольте, чекист Асцатуров, Давид Аветович Асцатуров. Слыхали?
— Тот, кто Тевана…
— Именно тот, кто погубил Тевана Степаняна, благодаря которому армянство Карабаха не было всё-таки под корень истреблено турками и мусаватистами. Враг, он среди нас, Арутюн, самый коварный наш враг — среди нас. Дерево бы не рухнуло, не будь топорище деревянным. Кто страшней всего для народа? Собственные его подонки.
Между тем старик, поравнявшись с нами, прошёл бы мимо, но Гурунц остановил его.
— Как поживаете?
— Всё в порядке… — Смутившись, человек остановился и неуверенно обвёл нас одного за другим глазами. — Что-то я вас не признаю, — несколько виновато сказал он, — не припоминаю.
— Мы работаем в армянской газете «Коммунист», — зачем-то сочинил Гурунц. — Как вы?
— Спасибо, помаленьку. В прошлом году получил орден на своё семидесятипятилетие, а в этом победил на республиканских соревнованиях по стрельбе.
Сагумян искренне поразился.
— Вам никак не дашь семидесяти пяти, — только и сказал он. — Вы смотритесь куда моложе меня.
— Потому что спортом занимаюсь, — объяснил старик. — После шести не ем, ежедневно холодный душ, зарядка, ну а вечерами пишу мемуары.
— О чём, если не секрет? — Гурунц явно старался разговорить его.
— О своей жизни, — не колеблясь, ответил Асцатуров. — Материала у меня — хоть отбавляй. Я, к примеру, участвовал в депортации татар из Крыма в Среднюю Азию, точней в Узбекистан. А сразу после татар выселяли греков, болгар и армян. Армян-то, положим, было немного, всего девять тысяч шестьсот двадцать один человек. Существовал секретный договор, по которому Крым должны были отдать евреям, но Сталин потом изменил мнение. Чеченцев с ингушами выселяли — в сорок четвёртом, в день Советской армии, 23 февраля. Расскажу вам интересный случай, едва ли вы знаете. Разыгралась метель, из аула Айбах народ надлежало доставить на железнодорожную станцию, а в горах заносы, грузовики не пройдут. И что вы думаете? По приказу Богдана Кобулова, тогдашнего замнаркома внутренних дел, всех жителей аула, мужчин, женщин, детей, общим числом семьсот тридцать человек, загнали на конеферму, заколотили досками все входы-выходы, окружили ферму плотным кольцом, солдаты с оружием стояли в полутора метрах один от другого, чтобы мышь не проскочила. Ну и подожгли. Доставить-то людей до вагонов не было никакой возможности. На всё про всё дали нам двадцать четыре часа, и другого варианта тут не придумаешь… Я с разными людьми в жизни встречался, про то и пишу. Всякое случалось. Я во время ликвидации одному врагу пулей брюхо разворошил. Была у него девушка любимая, так она ему громадной какой-то иглой живот зашивает, а он орёт благим матом и стреляет по нам. Или другой случай. Поймали одного в Персии, посадили здесь во внутреннюю тюрьму. Он и просит, позвольте, мол, в последний разок на отчий дом глянуть. Он был сыном богатого нефтепромышленника. Ну что ж, отвезли мы его, долго он смотрел из машины, на глазах слёзы, головой качает. А потом возьми да умри, разрыв сердца.
— Про Тевана не пишешь? — по-свойски, даже по-дружески спросил Гурунц.
— Про Тевана Степаняна? — воодушевился старик. — Как же про такое не написать? Он был офицером дашнакской армии, до этого, в царской ещё армии, воевал на турецком фронте, а потом затеял свои контрреволюционные делишки. Про зангезурца Гарегина Нжде вы наверняка слыхали, он умер в пятидесятые годы в знаменитом Владимирском централе. Так Теван делал в Карабахе примерно то же, что Нжде в Зангезуре, подымал народ, пытался воссоединить Карабах с Зангезуром и всей Арменией. Сколотил войско и выступил против одиннадцатой Красной армии, занял все кряду сёла в Дизаке и Варанде, дошёл до Аскерана… Короче говоря, — старик глубоко втянул воздух, восстанавливая дыхание, — наша ЧК два раза его арестовывала, и оба раза ему удавалось уйти. Председателем ЧК был тогда Багиров, а Берия — его заместителем. Так они самолично поехали в Туми, на родину Тевана. Понапрасну. Позднее, в двадцать девятом или тридцатом, Багиров с небольшим отрядом снова поехал в Карабах, пробыли там украдкой два дня, но до Тевана так и не добрались. Они Тевана не взяли, а я взял. Правда, гораздо позже, одиннадцать лет спустя.
Старик умолк, оценивая, то ли впечатление, какого он ожидал, производит его рассказ. Помолчал и продолжил:
— Теван то и дело менял имена и укрытия, отсиживался то на севере Ирана, то на юге, то в армянских сёлах близ Багдада. Осенью сорок первого, в начале ноября, он работал техником-строителем в административном центре Мазандарана города Сари. Из-за сложившейся в Иране ситуации стройка прекратилась, и Теван собрался уехать в Шираз к англичанам, а из Шираза — в Америку. Но мы поставили ему западню, — ухмыльнулся старик, — подослали агента-армянина, который тоже вроде бы рвался в Шираз. Да не тут-то было. Водитель, которого он отыскал, якобы не соглашался гнать машину в такую даль ради одного пассажира. Найди, говорит, ещё попутчиков, тогда поеду. Тот и нашёл Тевана. Договорились мы с нашим агентом, что будем ждать его в условленном месте километрах в десяти от Тегерана. Мы стоим у машины, подняли капот, словно мотор у неё барахлит. И тут показывается их машина и медленно проезжает мимо. В эту минуту я на карабахском наречии произношу что-то вроде пароля: «Вот незадача-то, застряли на пустыре». Теван услыхал, велел остановить машину, весёлый такой направился к нам со словами: «Не бойтесь, я вам застрять на пустыре не дам». И не успел он склониться к мотору, я обхватил его сзади, а двое крепких молодцов с агентом нашим, не мешкая, скрутили его по рукам и ногам. Он только и выдохнул: «Ох и твари же вы гнусные». Да нам его брань без интересу. Сунули его в мешок, перевязали сверху, довезли в таком виде до Тегерана, оттуда по приказу Алиева — самолётом в Баку. Не нынешнего, понятно, Алиева, а его тестя — Азиза Алиева, который руководил в те годы нашей миссией в Иране.
Старик опять перевёл дух.
— У Тевана обнаружили толстую тетрадь, исписанную мелким почерком и озаглавленную «Забытый герой». На допросе он ни в чём не признался, вот и предъявили ему как обвинение этот дневник. А как-то раз, — хмыкнул Асцатуров, — его допрашивали тридцать пять часов без передыху, за это время сменилось несколько следователей. И всё равно следователь Ишханов не выдержал и задремал. Открывает глаза — Тевана нет. Шум, переполох, в городе тревога; нет как нет. Уборщица видит — под лестницей кто-то спит. Кто? Теван! Он пытался сбежать, да у дверей стоял охранник, он спрятался под лестницей, чтобы переждать, и заснул. Багиров собственноручно расстрелял его у себя в кабинете, а семью выслали в северный Казахстан.
— А почему Багиров, во время правления которого в Азербайджане погибло около ста двадцати тысяч человек, в основном армяне, курды, лезгины и талиши, Берия и ты не задержали Хосров-бека Султанова, по приказу и при личном участии которого было истреблено население Хнацаха, Дашушена и армянских сёл Каракшлах, Параджанц, Арар, Минкенд, Спитакашен и Петросашен, лежавших между Карабахом и Зангезуром? — неспешно, словно б успокаивая себя, спросил Гурунц. — Арар, который находится в западной части Гадрутского района, через село Корнидзор Горисского района связывал Карабах с Арменией и до восемнадцатого года насчитывал тысячу семьдесят восемь жителей. Мусаватисты разрушили его, и позже стараниями помянутого тобой Мирджафара Багирова он был выведен из области и со своими выжившими восьмьюдесятью пятью жителями присоединён к нынешнему Физулинскому району. Как такое случилось? И почему вы не схватили этого слепого на один глаз Султанова, ведь это под его предводительством турецкие аскеры и пять тысяч хорошо вооружённых конных курдов подчистую вырезали большое армянское село Кайбалишен, что в двух километрах от Шуши, и примыкающие к Степанакерту деревни Пахлул и Кркжан, истребив шестьсот беззащитных женщин и детей, единственной надеждой и прикрытием которых и был отряд Тевана. Разве не твой армяноненавистник Багиров позднее заселил эти и другие армянские села Карабаха пятью тысячами специально вывезенных из Армении кочевых турок? И разве не тот самый курд Султанов, который сжёг Шуши, вырезал многие тысячи его жителей и велел обезглавить местного батюшку Ваана? Голову несчастного священника дикая толпа насадила на кол и так разгуливала по городу. До чего же точно вас Теван припечатал, — сухо и жёстко сказал Гурунц, с презрением глядя на старика. — Вы и впрямь гнусные твари. Скверные людишки.
Застигнутый врасплох старик отпрянул, изумлённо поднял брови, его гладко выбритое увядшее лицо напряглось. Он испытующе и с подозрением уставился на нас и, стремительно повернувшись, удалился своим отнюдь не по-стариковски бодрым шагом.
Всю дорогу до метро мы молчали.
– Ладно, я пойду, – у метро сказал Гурунц, устало глядя вслед старику. — Это же надо, сжечь целую деревню, старых, малых, всех до одного. Ну и какая, скажите на милость, разница между эсэсовцами, фашистами и этими? Впрочем, разница всё-таки есть. Те зверски обращались с противником, врагом, а эти — с собственным же народом. Одно слово — нелюди. -— И, резко поменяв тон и тему, Гурунц обратился ко мне: — Мужчины вроде меня женятся сдуру, разводятся от нетерпенья, а снова женятся, потому что память коротка. Так что мотай на ус. – И он шутливо наказал мне: – К следующему моему приезду непременно женись. У женитьбы, конечно, свои минусы, но долго мотаться холостяком ещё хуже. В мужской судьбе одно из двух – или быть холостым и несчастным, или жениться и свету невзвидеть… Следуй совету Сократа – что бы то ни было, женись. Попадётся хорошая жена, станешь исключением из правил, а плохая – философом. – Он засмеялся и обнял меня: – Хорошо сказано! А тебе, – сказал Гурунц, пожимая руку Сагумяну, – желаю здоровья. Надо всё вытерпеть и собственными глазами увидеть, чем это кончится. Ну, мы ещё встретимся! – И он многозначительно поднял палец.
быть холостым и несчастным, или жениться и свету невзвидеть… Следуй совету Сократа – что бы то ни было, женись. Попадётся хорошая жена, станешь исключением из правил, а плохая – философом. – Он засмеялся и обнял меня: – Хорошо сказано! А тебе, – сказал Гурунц, пожимая руку Сагумяну, – желаю здоровья. Надо всё вытерпеть и собственными глазами увидеть, чем это кончится. Ну, мы ещё встретимся! – И он многозначительно поднял палец.
Расставаясь с человеком, и мысли в голове не держишь, что, может статься, никогда больше с ним не поговоришь. А с Гурунцем у нас так и вышло. Нам уже не выпало свидеться.
Мы проследили издали, как Гурунц вошёл в метро, повернулся, и мы на прощанье помахали друг другу рукой.
– Сколько знаю, он всегда был таким, – сказал о Гурунце Сагумян, задумчиво поглаживая бородку. – Родителей его в 37-м арестовали, сам он прошёл всю войну вплоть до Берлина, но как был прямым, принципиальным, смелым и непримиримым, так и не изменился. Столько же времени я знаю Самвела. Лизоблюд и подхалим. Если дело пахнет копеечной выгодой, никого не пожалеет, ни перед чем не остановится. Два противоположных полюса, и жизнь у них соответственно сложилась. Один в довольстве и почёте, а на другом истрёпанное старое пальтецо.
*******
До поздней ночи готовил я сценарий телепередачи об открытии памятника в Бегум-Сарове, с утра понёс его Арине напечатать на машинке.
Дверь её комнатки, ведущая в общий отдел, была приоткрыта; было слышно, как Арина мурлычет себе под нос очередную популярную песенку: «Ты мне солнце, ты мне свет, без тебя мне жизни нет».
– Всё утро соловьём заливается, работать не даёт, – беззлобно пожаловалась Лоранна. – Вчера бывший сделал ей комплимент, вот и закружилась, наверное, голова.
– С песней работается в охотку, – сказал Тельман Карабахлы-Чальян, он же, если угодно, Сальвадор Дали. – Спросили у воды: ты чего журчишь и журчишь, она в ответ: у меня приятель – камень. Это ничтожество Геворг Атаджанян столько трепался с чужими жёнами, что телефон из строя вышел, – сказал он, оправдываясь. – Я от вас позвоню.
Тем временем Арина распахнула дверь своей комнатки и радостно поздоровалась.
– Кто это тебе свет и солнце? – полюбопытствовал я.
– Ты, кто ж ещё,– сказала она со значением. – Заходишь и не здороваешься.
– Ну, здравствуй!
– Привет! – с гримаской ответила она. – Ты сегодня на месте? Сильва придёт.
– В котором часу? Встретим её на первом этаже с оркестром.
Арина кривила губы в поисках ответа.
– Чего ты цепляешься к нашей семье?
– По велению Божию! – Я подал Арине листки со сценарием. – Два экземпляра, один режиссёру.
Тельман ушёл к себе, мы остались втроём.
– Что я слышу, Арина, бывший расточает тебе комплименты! Как сие понимать?
Арина метнула на Лоранну бешеный взгляд, однако предпочла воздержаться при мне от выяснения отношений.
– Какое тебе, спрашивается, дело до впавшего в детство маразматика? – за глаза уязвила Лоранна нашего бывшего, при этом обостряя разговор.
– Да бросьте, что ж он сказал?
– Что да что… Сказал, какие, мол, у тебя красивые чёрные глаза, – расплылась наконец Арина в довольной улыбке.
– Тебе?
– Мне, – с гордостью подтвердила девушка.
– Не верь, у него вкуса нету, – сказал я. – Он уже в том опасном возрасте, когда все женщины кажутся красавицами. Не верь.
– Не верь… – скривила губы Арина.
– Молодец Гурунц, поставил его вчера на место, – сказала Лоранна. – Как он взбеленился! Покраснел как рак.
– Пусть знает, – сказал я, подмигивая Лоранне, – каково ни за что, ни про что оскорблять человека. «Красивые чёрные глаза», тоже мне.
– Но ведь у Арины и вправду красивые глаза, – будто бы защищая её, с ехидцей сказала Лоранна. – Погляди хоть анфас, хоть в профиль, ни дать ни взять героиня Соломоновой Песни песней: «Дщери иерусалимские! Черна я, но красива. Я нарцисс саронский, лилия долин. Если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». Посмотри хорошенько, Лео, разве не красивы эти глаза?
– Если галантный кавалер под восемьдесят находит, что они красивы, – сказал я, стараясь остаться серьёзным, – будем считать, что так оно и есть.
Арина с грохотом захлопнула дверь, а Лоранна виновато сказала:
– Она меня убьёт, Лео. Зачем ты предал меня?
Я знал Аринину вспыльчивость, её приступы проходили стремительно, почти сразу.
– Не бойся, – успокоил я Лоранну. – Через две минуты всё забудется.
И правда, не успели мы договорить, Арина вышла из своей комнатки с машинописной страницей в руке.
– Вы только послушайте, этот человек вконец из ума выжил. Видели бы вы, как он дрожащими руками собирает свои бумаги. Я ему говорю, Самвел Атанесович, не стоит вам приходить каждый день, не мучьте себя, оставьте рукопись. Придёте, когда я закончу. Нет, говорит, это невозможно, мои мысли разворуют. В гробу я видела твои мысли, – выругалась в сердцах Арина. – Сейчас прочту вам кое-что из его творений. «Стояла осень сорок второго года, сентябрь или октябрь месяц. Жена Аня пообещала утром сварить толму с виноградными листьями, которую я очень люблю («Добрая половина его воспоминаний про еду и питьё», – прокомментировала Арина). Работал я в радиокомитете и, придя с работы, уже в подъезде уловил запах толмы. Мы жили в коммунальной квартире на втором этаже на бывшей Каспийской, ныне улица Шмидта. Что же я увидел на кухне? Над керосинкой склонился однорукий молодой человек в шинели и с костылём под мышкой, скорее всего дезертир, бежавший из армии, и с невероятной скоростью пожирал нашу толму. Я кинулся в комнату, где держал за дверью длинную палку, и, вернувшись на кухню, принялся осыпать вора ударами по спине, по голове, словом, бил куда ни попадя. Рассёк ему в двух местах голову, кровь хлынула ручьём, он тщетно пытался защищаться. Да и как тут защитишься – с одной рукой, хромоногий, при костыле? Поднялся шум-гам, прибежали соседи и вместо благодарности, ведь я же поймал вора, начали бранить и поносить меня. Я позвонил в милицию, вора забрали. Что с ним стало, мы так и не узнали».
– Такие люди не имеют права жить, – побледнев от негодования, сказала Лоранна и повернулась к Арине: – Как ты только печатаешь этот кретинизм?
– Депутат и член президиума Верховного Совета, – вышла из себя Арина. – Чтоб ты сквозь землю провалился, бессовестный. Он и правда сбрендил.
– Ну, это и по его комплиментам видно, – сострил я.
Арина засмеялась.
– Лео, Сильва скоро придёт, – дружелюбно сказала она. – Пожалуйста,, сходи в бухгалтерию, поговори.
– Ладно.
Спустился в бухгалтерию, условился с Сеидрзаевой. Место счетовода по-прежнему оставалось вакантным, она пообещала непременно нам посодействовать. Едва вернулся, ко мне зашла Лоранна – благоухает дорогими духами, губы ярко накрашены, а в руках бумаги.
– Лео, главный поручил нам вместе посмотреть этот материал.
– Что за материал?
– Передача про гастроли ереванского театра юного зрителя в Баку. Я его уже подготовила.
– Садись, почитаем.
Я сел на своё место, Лоранна устроилась напротив, небрежно закинув ногу на ногу.
– Какие у тебя красивые руки, Лео, – сказала она.
Я взглянул на неё и улыбнулся:
– Если материал никуда не годится, всё равно забракую.
Лоранна рассмеялась:
– И пальцы у тебя тоже красивые. Как ни взгляну на них, изящные и длинные, восхищаюсь и завидую.
– Только и всего? Других достоинств у меня нет?
– Достоинств у тебя много. – Лоранна посмотрела на меня своим мягким сердечным взглядом. – Высокий, мужественный, чуткий, деликатный, красивый. А ещё искренний, отзывчивый, не скупой. Перечислять дальше? Временами, Лео, я думаю, как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым. Доброе слово, фраза или даже взгляд либо, скажем, улыбка, и сразу кажется, что весь мир – твой… Упустила в перечне твоих достоинств очаровательную, необычайно красивую улыбку, когда ты искоса поглядываешь из-под бровей и снисходительно и благосклонно улыбаешься.
– Осыпай десятками комплиментов женщину, она небрежно тебя поблагодарит, и всё, тогда как для мужчины пустячного комплимента достаточно, чтобы запомнить его на всю жизнь.
– Если ты когда-нибудь меня забудешь, то хотя бы вспомнишь мои комплименты, – рассмеялась Лоранна. – Знаешь, что рассказывала про тебя Арина? Когда, говорит, я впервые увидела Лео, почувствовала в груди обжигающий удар, и мне на миг показалось – моё сердце остановилось.
– Ладно, дай сюда текст. Кто читает, я или ты?
– Ты. Хочу всё время слышать твой притягательный голос… Одно тебе скажу, Лео, только не смейся. Почему так происходит, сама не пойму – десять влюблённых мужчин у твоих ног, а ты их даже не замечаешь, они тебе не нужны, тебе необходим одиннадцатый, тот, который и не смотрит в твою сторону. Удивительно, правда? Можно закурить?
– Кури. Только выключи кондиционер.
Лоранна вытянулась во весь рост, обнажив белые ляжки, выключила кондиционер и, став у окна, закурила.
– Когда начинаются гастроли?
– Собственно говоря, это не вполне гастроли, – пояснила Лоранна. – Они покажут лишь один спектакль – «Наш уголок большого мира» Гранта Матевосяна. Но я рассказываю о театре вообще, о пройденном им пути, репертуаре и, в частности, об этой постановке. Я воспринимаю театр как одну из форм общественного сознания, как искусство перевоплощения, искусство звучащей со сцены устной речи. Вчера утром я встретилась в гостинице с главным режиссёром. У них есть уже готовая лента, мы прокрутим её и проведём интервью с режиссёром и ведущими актёрами, занятыми в спектакле. Передача пойдёт в прямом эфире, главный хочет, чтоб интервью провёл ты.
Текст был неплохо написан, я сделал два-три мелких замечания, с которыми Лоранна согласилась.
– Кто из актёров участвует в передаче?
– Виолетта Геворкян, Ким Ерицян, Весмир Хачикян, Жасмен Мсрян и сам режиссёр-постановщик Арташес Ованнисян.
Я связался по внутреннему телефону с главным.
– Владимир Гургенович, мы с Лоранной просмотрели материал про ереванский ТЮЗ, написано неплохо, и, по-моему, Лоранна сама должна провести передачу.
Лоранна растроганно посмотрела на меня и улыбнулась.
– Если считаешь, что так целесообразней, – отозвался главный, – то я не против. А ты, Лео-джан, если свободен, зайди ко мне на минутку, надо переговорить.
Мы с Лоранной поднялись одновременно. У дверей, почти прильнув ко мне и обдав своим ароматом, она в смущённом недоумении посмотрела на меня и нежно произнесла:
– Лео, почему ты такой хороший?
На её внезапно зардевшемся лице проступило нечто далёкое и загадочное. Она тяжело дышала, в зеленовато-голубых глазах и на полуоткрытых, упрямых, чётко очерченных губах появилась обворожительная улыбка, она смотрела искоса, прищурив глаза…
Главный завёл речь о Тельмане Карабахлы-Чахальяне, верней, его вчерашней детской телепередаче.
– Ты видел её? – спросил главный.
Я не смотрел передачу. Он покачал головой, расхаживая по просторному кабинету взад-вперёд.
– В комитете есть замечательные ленты. Сидят вдвоём без дела, ленятся даже зайти в фильмотеку, познакомиться с тем, что там есть, и выбрать подходящий ролик. Пичкают детей скучнейшим текстом, иллюстрируя его фотографиями. Разве так можно? Их передачи наводят тоску не только на детей вообще, но и на младенцев до ясельного возраста, – не унимался главный. – Безобразие, сущее безобразие!
– Владимир Гургенович, я и сам многократно говорил с вами на эту тему, но, что называется, безуспешно, на коллегии тоже не раз поднимался вопрос о его лени, несостоятельности, нежелании работать. Коль скоро вправду невозможно перевести его в другую редакцию, коль скоро мы почему-то обязаны держать его у себя и обеспечивать гонорарами, то я предлагаю больше не давать в телеэфир ни одной передачи, где он выступает автором. Пусть пишет что угодно – сказку, рассказ, передавать это только по радио. Другого выхода не вижу, хотя и радиослушателей тоже жалко.
– Согласен. На ближайшей коллегии примем решение. Была б возможность, избавились бы от обоих.
*******
Сильва появилась сразу после перерыва.
– А вот и Сильва, – представила её Арина.
Невысокая, скуластая, в платье с глубоким вырезом на пышной груди, с чёрной мушкой величиной с булавочную головку над уголком сексуального рта, с густо намазанными вишнёвой помадой губами, обведёнными тушью глазами, яркими тенями на веках, длинными тщательно загнутыми ресницами. По всему было видно, что она приложила немало усилий, чтобы произвести впечатление.
– Вы принесли документы?
– Да. – Инстинктивно стараясь вызвать к себе симпатию, она пристально взглянула на меня, улыбнулась, медленно и торжественно извлекла из сумочки паспорт, трудовую книжку, диплом и положила передо мной на стол.
– Пойдёмте, – взяв документы, сказал я.
– Мне здесь подождать? – отчего-то смешавшись и даже подавленным тоном спросила Арина и сама себе ответила: – Нет, лучше я пойду к себе, нужно кое-что напечатать. Сильва, зайдёшь ко мне.
Мы прошли по длинному людному коридору, спустились по лестнице на четвёртый этаж, свернули там налево, миновали ярко освещённый широкий коридор с нескончаемой чередой дверей по обе стороны, в конце снова повернули налево и, следя за табличками на закрытых дверях, остановились перед дверью, на которой чёрными буквами значилось «Бухгалтерия». Я открыл дверь и пропустил Сильву вперёд. Из прихожей были видны все три комнаты, занятые бухгалтерией. В кабинете Сеидрзаевой, где на столе были разбросаны кипы различных бумаг, толстые папки и стоял компьютер с прыгающими разноцветными полосами на мониторе, никого не было.
– Она сейчас придёт, – сказала с солнечной улыбкой на эротической мордашке Альвина Осипова из соседней комнаты, вытянув шею и продолжая жевать жвачку; глазами она озорно спрашивала: кто это?
В ожидании главного бухгалтера мы снова вышли в шумный коридор.
Из репетиционных залов доносились обрывки песен и музыки. Где-то за толстыми стенами глухо и ласково звенел детский хор: «Джу-джу-джуджальярим, мяним гашанг джуджальярим, джу-джу-джуджальярим…». Потом послышались сладкозвучные переливы Баба Мирзоева: «Ах ты, Телло, Телло-джан, Телло»…
– Привет, старик! – Это был Сиявуш из русской редакции телепередач.
Я обернулся на голос.
– Здорово, Сиявуш! – весело приветствовал я его. – Ты где пропадаешь, уже две недели тебя не видно.
– Перевёлся в Союз писателей, – ответил он, бросил мимолётный взгляд на Сильву и кивком с ней поздоровался.
– Почему? – огорчился я. – Здесь чем было плохо?
– Там я свободнее. Работа начинается в десят часов и кончается в четыре. Всего, включая перерыв, шесть часов. И ещё день в неделю – творческий. Условий, чтобы писать, куда больше. Да и работа лёгкая – советник председателя союза. Послушай, старик, – поправив указательным пальцем очки, сказал Сиявуш. – Мне тут рублей четыреста предстоит получить за сценарий. Два раза приходил, а денег нет. Замолви за меня словечко Саиде, она тебе благоволит и не откажет.
– Замолвлю.
– Сотню пропьём, триста домой отнесу. Ты же знаешь, Сиявуш своему слову хозяин. – Он иной раз говорил о себе в третьем лице.
– Договорились. Я как раз её жду. Вечерком позвони.
– Э-э, какой из тебя домосед, – многозначительно сказал Сиявуш и рассмеялся – дескать, вижу, чем ты занят.
– Кто это? – спросила Сильва после его ухода.
– Сиявуш Мамедзаде. Поэт, окончил Литературный институт в Москве. Замечательный парень. Другого такого нет.
– Лицо приятное и знакомое.
– Видели его по телевизору. Он ведёт литературные передачи.
– Наверное… Арина много о вас рассказывала, – неожиданно сказала Сильва и, подняв глаза, вновь пытливо поглядела на меня.
Пауза.
– Знаете, она часами готова о вас говорить.
Снова пауза.
– Я начинаю её понимать, – заговорила она вновь и без перехода спросила: – А я здесь голову не потеряю?
– В каком смысле? – не понял я.
Сильва прыснула, прищурилась, покусывая толстогубый кумачовый рот.
– В том смысле, что красивая женщина может потерять голову в обществе красивых мужчин.
– Напрасно беспокоитесь, – хмыкнул я. – В бухгалтерии одни женщины.
– Это хорошо, – легко вздохнула Сильва. – А то, знаете, муж у меня страшный ревнивец.
Она довольно простодушно разыгрывала роль привыкшей к обожанию женщины. Я понимал это, но смолчал, ибо ко мне это не имело никакого касательства.
– Знаете что, – едва разлепляя губы и смиренно глядя снизу вверх, продолжала Сильва, – если сотня людей отзывается о тебе хорошо и лишь один плохо, то окружающие как раз этому одному и поверят. И обрадуются. Да что уж, интересным мужчинам и красивым женщинам пересудов не избежать.
Дверь отдела кадров открылась, оттуда выплыла Сеидрзаева.
– Саида, мы вас ждём, – сказал я. Во рту у неё тоже была жвачка; сомкнув губы, она на ходу лениво двигала челюстями.
– Вот об этой девушке речь? – по-армянски спросила Сеидрзаева, поравнявшись с нами. Её мать была армянкой, и она свободно владела армянским языком.
– Да, она самая. С позволения сказать, гражданка Дарбинян. Вот её документы.
– Пошли, – сказала Саида, – окинув Сильву оценивающим взглядом. Потом перевела взгляд на меня и двусмысленно улыбнулась. Синевато-серые джинсы сидели на ней до того плотно, что швы на бёдрах местами чуть не полопались.
В кабинете Саида пробежала глазами документы Сильвы.
– Бухгалтерского стажа у вас нет, – перелистав трудовую книжку, сказала она деловито. – Примем вас пока счетоводом, вы подучитесь, и через несколько месяцев переведём помощником бухгалтера. Я переговорю в отделе кадров. Думаю, председатель комитета не будет возражать. О результатах я сообщу Лео. Надо будет написать заявление, заполнить анкету. Всё это, конечно, потом. А пока так. Чем ещё могу быть вам полезна? – Вопрос относился ко мне, и Саида улыбалась.
– Не мне, а Сиявушу Мамедзаде. Ему никак не удаётся получить у вас деньги. Если можно, окажите, пожалуйста, такую любезность.
– Передайте, пусть приходит, – она широко улыбнулась. – А соберётесь отметить, не забудьте за меня выпить.
– Спасибо! Не забудем.
В конце дня Арина зашла ко мне. Она была не в настроении.
– Что случилась, Арина? – забеспокоился я.
– Случилось… ничего не случилось. Просто не стоило мне приводить её сюда.
– Кого? – спросил я, разумеется, понимая, о ком идёт речь.
– Сильву.
– Почему?
– Почему… потому что она смотрит на тебя как шлюха, – со злостью выпалила Арина.
Не в силах сдержаться, я громко засмеялся. Позже по пути домой и даже в автобусе на Сумгаит опять и опять смеялся, вспоминая злость Арины, яростную её вспышку, внезапную, словно взрыв, и чувствуя к ней родственные чувства и неподдельную нежность.
*******
Отец давно пришёл с работы, но, дожидаясь меня, за стол не садился. Обнял меня, похлопал по спине и, довольный, ходил по комнате, пока я переодевался.
– Мы ждали тебя на прошлой неделе, – отец укоризненно, но без обиды посмотрел на меня и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Знаешь ведь, больше месяца мы разлуки с тобой не выдерживаем.
Мама со смехом заглянула из кухни в комнату:
– Бог весть, в кого он уродился. Твой брат Володя, муженёк, клал перед собой двухкилограммовую курицу, а дети следили за ним с открытыми ртами, уплетал её за обе щеки. И, пока сам не наестся, не даст им ни кусочка. А этот – будто другая мать его на свет явила. Только дети на уме. У нас, Лео, все деньги на телефон уходят. Неделя звонками начинается – Чаренцаван, Ставрополь, Баку – и звонками кончается.
– Молчи, женщина, делом своим займись, – сказал отец и подмигнул мне. – Смотри, какой я коньяк купил. «Юбилейный». – Он достал из буфета и поставил на стол бутылку с золотыми армянскими буквами на этикетке. – Сын мой приехал. Вдвоём и выпьем.
– Можно подумать, целый год не виделись, – послышался с кухни голос мамы. – Отсюда до Баку каких-то двадцать пять километров.
– Длинные волосы, короткий ум – о ком это сказано? – усмехнулся отец. – Для меня месяц всё равно что год. Сердце у меня слабое, не выдерживаю. Точка.
– Точка, – со смешком сказала мама, входя в комнату, и принялась накрывать на стол. – Ты почему на прошлой неделе не приехал?
– Гость у меня был из Еревана.
– Кто такой? – спросил отец.
Не мог же я рассказывать ему об Армене.
– Писатель Леонид Гурунц.
– Гурунц? – удивился отец.
– Да, – подтвердил я. – Наказал мне жениться к следующему своему приезду.
– Хорошего человека сразу видно, – обрадовался отец. – Вот что значит доброе сердце. Человек таким и должен быть. Знаешь, скольким он сделал добро. Стало быть, ты видел Гурунца.
– К нам иногда приезжает Сурен Айвазян. А недавно был и Серо Ханзадян. На нашем наречии говорит.
Отец с гордостью посмотрел на мать.
– Видишь, с какими писателми знаком твой сын? – Он наполнил рюмки. – Выпей и ты с нами.
– Да ты сдурел, – осерчала мать. – Этого только мне не хватало.
– Ну и не пей, – бросил отец. – Плохо ли, нам больше достанется. – Он засмеялся, занял место во главе стола и поднял рюмку. – Выпьем за родителя, чей отпрыск носит доброе имя, и за отпрыска, который не роняет чести родителя. – Отец удовлетворённо посмотрел на меня, чокнулся со мной, но не выпил. – Есть у меня знакомый, человек приличный, трудолюбивый. Так вот он со слезами на глазах сказал своему сыну, беспутному пьянице, которому от роду тридцать лет: лучше б я умер в тот день, когда ты родился. Мудрец Соломон изрёк: достойный сын – счастье для отца, а недостойный – несчастье для матери. Вот оно как, дорогой ты мой. Боль, причинённая твоим чадом, неисцелима, трудно её вынести. Отцу мнилось, будто он в лишениях растит сына, а на деле сидел у реки да сеял муку. Думаешь, горькие его слова подействовали на сына? Ничуть не бывало. Такое тоже случается. Бывает, один стоит тысячу, тысяча других и ломаного гроша не стоят. Иметь хорошего наследника и быть хорошим наследником – это как удача выпадет. Со дня творения так повелось, так и впредь будет, умный от века страдал в руках неразумного. – Он залпом выпил коньяк. Выпил и поморщился. – Фу, клопами пахнет, – сказал он, встал и достал из буфета бутылку водки. – И как только люди пьют эту отраву? – покачал головой отец. – Ты пей коньяк, а я буду водку. Много-то я не пью, две-три рюмки. Стало быть, ты видел Гурунца, – вернулся он к прежней теме. – В Карабахе его именем клянутся. Скольких невинных спас он от тюрьмы, ты это знаешь? А тутовые сады? Напечатал несколько статей в «Известиях» и не допустил, чтоб азербайджанское правительство пустило их под топор, как позднее пустило под топор виноградники. Что за жизнь без шелковичного листа? Остановился бы Карабахский шёлковый комбинат и его филиалы в сёлах Хндзристан, Туми, Чанахчи и Каринтак. Сотни людей лишились бы работы. А тутовая ягода, свежая и сушёная, а дошаб, а животворная тутовка? Я вот думаю, это каким же бездушным надо быть, чтобы сесть и решить уничтожить эти тысячелетние сады, по сути дела – оставить обитателя этих краёв без средств к существованию. Собственно, у нас всякое решение неизменно било по простому человеку. Что на благо ему, то остаётся на бумаге, а что во вред – оно тут как тут.
– Полно тебе языком молоть, дай ребёнку поесть.
– А я что, мешаю? Пусть ест на здоровье. Мы беседуем. Стол накрывают не для того, чтобы ни о чём, помимо еды, не думать, – растолковал отец. – Застолье – и для беседы. Что-то скажешь и что-то услышишь, чему-то научишь, а чему-то научишься. Едят все на свете – и лошадь, и корова, тем человек и отличается от скотины, что дан ему разум. И мысль, и речь, и умение слушать. И ещё он памятью наделён. А без этого он та же скотина. Бога ради, не мешай, не то как встану… – наигранно пригрозил отец.
– Услышал бы кто сторонний, решил бы – зверь-мужик, – засмеялась мама, с любовью глядя на отца. – А ведь сроду пальцем меня не тронул и слова худого не сказал.
– С чего бы мне буянить и браниться, – миролюбиво сказал отец, с улыбкой глядя на мать. – Ты же моя любимая понятливая жена и верный мой друг в любую пору, счастливую или тяжкую.
Польщённая мама с глубоким восхищением и нежностью посмотрела на отца, после перевела взгляд на меня и смущённо улыбнулась.
– Из признанных армянских писателей я видела только Сильву Капутикян – лет около тридцати назад, у нас в школе. Они пришли втроём – она, Баграт Улубабян и Саргис Абраамян. Молодая, красивая. А как она говорила, как читала стихи! У нас прямо мурашки по спине побежали. Она стала первым армянским писателем после Исаакяна, который приехал в Карабах. Исаакяна в сорок восьмом отвратительно приняли. Секретарь обкома Тигран Григорян, ишак ишаком, спросил: «У вас есть разрешение на посещение Карабаха?» Армянин, секретарь армянского обкома задаёт подобный вопрос великому армянскому поэту…
Отец оживился:
– Был случай, ты, может, не знаешь. В селе Талиш Исаакян поцеловал руку глубокой старухе с платком на голове. «За всю жизнь мне только двое руку целовали, – говорит старуха. – Ты да ещё бородач». Она имела в виду Раффи. Представляешь? А знаешь ли ты, что Зорайр Халафян тоже родом из этого села? – внезапно вспомнив, добавил отец. – Талантливый писатель, очень талантливый. Давненько уже я читал его вещи, но помню до сих пор отчётливо. Его герои – Степан, Антик, Нора, Васил. Абет, Унан и три его сына – как живые стоят у меня перед глазами. Эх, если б уметь так писать…
Отец налил себе водки, понюхал и отодвинул рюмку.
– Нет, не буду мешать одно с другим. Коли сын пьёт коньяк, и я буду коньяк. Как и положено, по-братски.
Я налил отцу коньяку. Он поднял бокал и произнёс:
– Иные полагают, будто жизнь, она долго тянется. Куда там! Это мир вечен, а жизнь коротка. Когда молод, чудится, что нет ей ни конца, ни краю, на самом-то деле не успеешь оглянуться, как она позади. Ошибёшься – пропал, исправить ошибку нету времени. Потому жить надо так, чтобы не допускать ошибок. Это, кто спорит, очень нелегко, но всё-таки надо стараться всегда быть чистым. Даже коли всё кругом заляпано грязью, постарайся быть справедливым. Кровь из носу, но сделай так, чтобы на закате своих дней можно было сказать не кому-то, но самому себе: я прожил отмеренные мне сроки праведно, трудился в поте лица, зла никому не творил, ибо жизнь и впрямь даётся лишь однажды, второй жизни не бывать. И, в общем, неважно, коротка жизнь или длинна, Важно прожить её без ошибок. Жаль, что люди поздно это разумеют, когда нет уже ни времени, ни возможности вернуться вспять. Господь заповедал Адаму добывать насущный хлеб в поте лица, забывать этого человек не должен. А что пришло к тебе по кривой дорожке, по той же дорожке и уйдёт. Библия, которую ты мне подарил, лежит в другой комнате, я постоянно её читаю. Самая древняя и самая мудрая из всех книг. Много чего я из неё почерпнул. Например, уподобимся воде, пролившейся на землю, а не песчинке, подхваченной ветром. Или: возлюбите друг друга. Между прочим, в Коране, священной книге мусульман, заповедано то же самое: любите ближних и живите с ними в мире и во благе, а не во зле и вражде. Вдумайся, до чего мудро… Будь здоров, сынок, да убережёт тебя Бог от бед и напастей. Для честного человека нет худшего оскорбления, чем несправедливо или злонамеренно обвинить его – ты, мол, нечестен. Пусть Бог всегда тебя наставляет на путь истинный, сынок, чтобы не натыкаться на камни. Помни, счастлив тот, кто пропускает мимо ушей советы злопыхателей, не идёт за грешниками и не солидарен с преступниками, но делает добрые дела и радуется им. И сознаёт, что завтра ему воздастся сторицей. Как сказано в Священном писании, такой человек подобен плодовому дереву, посаженному над потоком воды. На этом дереве зреют плоды, а листва не опадает. Такому человеку во всём будет сопутствовать удача. Твоё здоровье! Приезжай почаще, чтобы нам не тосковать подолгу.
Отец выпил, опять поморщился. Но недовольства не выразил.
– Клопами вроде бы не пахнет, – сказал он.
– Выпьешь ещё – фиалками запахнет, – рассмеялась мама.
– Верно говорит, – добродушно улыбнулся отец. – Наливай, лучше пустая голова, чем пустой стакан.
Мама поставила на стол поджаренную зелёную фасоль. Глубокое блюдо исходило паром. Аппетитный запах свежей фасоли заполнил комнату.
– Ух… Карабахом запахло, – воодушевился отец. – Нет, что ни говори, вкус у карабахской фасоли особый, и воздух там особый, и вода. Даже сравнить не с чем. И народ особый – честный, трудолюбивый, отважный, геройский. Какой ещё малый народ дал в Отечественную войну столько героев? А маршалов? А генералов? Несколько десятков! А славные военачальники царской армии? Мадатов, Бебутов, Тер-Гукасов, Лазарев, Шелковников, всех и не упомнишь. А Мюрат, мамелюки Наполеона Рустам и Петрос… С территории исторического Арцаха, то есть из исконного Нагорного Карабаха и его северной части – Гюлистана, Геташена, Дашкесана, Ханлара, Шамхора, Гетабека и других мест, которые в двадцать третьем году вероломно не включили в только что созданную автономную область, – ушли на фронт сто две тысячи армян. Тридцать один из них удостоился звания Герой Советского Союза, а двое – маршал Баграмян и доблестный лётчик Нельсон Степанян – стали дважды героями. А население Карабаха – горстка народу. Видел ты такое где-нибудь ещё? Не видел. Открой сравнения ради Большую советскую энциклопедию и посмотри – сколько героев дал Азербайджан с его двумя с половиной миллионами азербайджанцев? Всего сорок два. И одного боевого генерала – Ази Асланова. Да и тот по национальности талыш…
Отец насупился, задумчиво уставился в одну точку, тяжело покачал головой и грустно добавил:
– Жаль, никто этого не ценит. Москва не ценила прежде и нынче не ценит вековую преданность и верность армян. Не зря вздыхал великий патриот Тарас Шевченко: «Думы мои, думы, горе мне с вами…» – Он умолк ненадолго и с горечью сказал: – Пустеет Карабах, пустеет, как и Нахичеван. Молодёжь уезжает в Ереван, получает образование, а вернуться ей не дозволяют. А если кто и вернётся, то где работать, к чему приложить силы? Промышленности нет, строительства нет, заводов и фабрик нет, дорог нет, ничего нет. Люди волей-неволей протестуют, требуют присоединить Карабах к Армении. Кто протестует, тех либо изгоняют из области, либо сажают. Знаешь, сколько народу свернули себе голову на этом пути? Сколько народу сослали, почти все так и канули без вести в Сибири. Бессчётно. И Ханджяна за это убили. Будь я владетелем Карабаха, поставил бы в его центре высоченный обелиск и высек бы громадными буквами: «В память всех тех, кто погиб и погибнет во имя Карабаха».
– Перестань, не мути ребёнку душу! – перебила его возмущённая мама. – Тысячу раз мы всё это слышали, а проку никакого. Так что смени тему.
– Будь по-твоему, – согласился отец. – Меняем тему. Перечитал я недавно «Гикора». Знаешь, к какому пришёл заключению, что подумал? Из всех наших классиков мы больше всего любим Туманяна. Все вещи светлого этого человека, будь то стихи или проза, истекают из нашего сердца. Знаешь, почему пришёлся всем по душе «Гикор»? Потому что все мы, когда маленькие, – Гикоры, а когда повзрослеем – Амбо. Мой отец, иными словами, твой дед Воскан, – вылитый Амбо, наивный, жалкий, вечно понурый, охваченный тяжкими думами. Всю жизнь отдал колхозу, горемыка, и не видел за всю свою жизнь ни единого хорошего дня. Исаакян будто бы про него написал: «Ах, наше сердце горечью объято, не видели мы радости совсем». А как его увидишь, коли государство, которое зовётся родным, сдирало с крестьянина три шкуры: держать корову не дают, а план на масло – вот он, овец нет, а план на шерсть есть, коз нету, план на козий мех изволь выполнить, кур у тебя нету, зато план на яйца спущен, приусадебный участок по четыре раза в год измеряли, не дай Бог лишний метр – штраф, а на плодовые деревья – налог. Это в какой же нужде должен человек оказаться, чтобы позволить завербоваться в Сумгаит дочкам четырнадцати и пятнадцати лет. А мы, голодные и голые, с красными галстуками на шее, маршировали с песней под горны и барабаны: широка страна моя родная. Пели и верили, что на свете и впрямь нету другой такой страны, где человеку так вольно дышится. Маршировали мы по деревне, примостившейся в далёких горах, горланили песню и верили, что счастливую жизнь дал нам товарищ Сталин. А ведь это Сталин устроил нам страшную жизнь. Он и ещё Ленин. Одним из первых ленинских указов в восемнадцатом году был указ о создании концлагерей.
– Вот человек! – осадила его мама. – Да поговори ты о чём-нибудь интересном, тост какой-никакой произнеси.
– Так и быть, выпьем за товарища Сталина.
Я обнял отца, поцеловал его в щёку. Мне было приятно слушать его, хотя всё, что он говорил, он не раз уже повторял.
– Мать его так и раз этак, этого Сталина, ненавистника армян, – подняв рюмку, провозгласил отец. – За родителей надобно пить первым долгом, а не в порядке одолжения, мол, пока не забыли. Выпьем же за моих родителей. Отец у меня святой, что твой Христос, а мать – как Мария-Богородица. И за твоих родителей, жёнушка, упокой Господь их душу. И за двух наших дочек, они, по счастью, сами уже стали родительницами. Пускай мы во всём себе отказывали, но дали им обеим образование. Дерево своими плодами богато, ну а человек – детьми. Хорошее дитя – оно, что весенний цветок и осенний плод, и глаз родителям радует, и сердце утешает. А заодно с ними всеми и за наше здоровье, потому, как и мы тоже родители. Лео-джан, выпей, дорогой. Как сказал тебе Гурунц, женись. И тогда поймёшь, каково быть родителем. Знаешь, что на свете лучше всего? Когда сидят отец с сыном и пируют от души.
Мы выпили, отец долго смотрел на бутылку, потом повернулся к маме:
– Вообрази, ты была права. Коньяк хоть и не фиалками пахнет, но чем-то очень приятным.
Мама засмеялась и пошла на кухню.
– Кто знает, – снова заговорил отец, – может, если бы сёстры не завербовались, а я не приехал к ним в Сумгаит, жизнь у меня сложилась бы иначе. Я с четвёртого класса печатал в газетах корреспонденции. Однажды написал в пионерскую газету, что хочу стать героем, да не знаю, как стать им в мирное время. Письмо моё напечатали, а потом ещё четыре-пять месяцев печатались отклики. Десятки людей, взрослые и дети, обращались ко мне через газету, давали советы. Даже Виктор Амбарцумян отозвался. «Пионер канч» и мои стихи напечатала. И «Советакан Карабах» тоже. В соседнем селе Кочохот был школьник вроде меня, Джамал Тадевосян. Мы с ним участвовали в четвёртом съезде юных корреспондентов Азербайджана. Представляешь, ученик пятого класса – делегат республиканского съезда. Мы пошли в редакцию журнала «Гракан Адрбеджан», на улицу Хагани, напротив парка имени 26-ти комиссаров. Заведующий отделом Востик Каракозян ел за письменным столом гречку. Мы битых полчаса ждали, он битый час ел. А потом прочёл наши стихи, похвалил и пообещал напечатать в ближайшем номере. Попросил у нас фотокарточки. Мы обрадовались, побежали фотографироваться. Назавтра понесли ему наши фото. Каракозян опять ел гречку. Взял фотокарточки. Мы прождали год, а стихи в журнале так и не появились. Я послал туда два рассказа, их напечатали. Но это было спустя несколько лет, я учился в девятом классе. Мне пришло пространное письмо от писателя Маргара Давтяна. Были письма из других редакций…
Я видел эти редакционные конверты с отпечатанными на них типографским способом названиями газет и адресами. Бабушка бережно хранила их в старом своём сундуке.
– Бабушка бережёт эти письма, – сказал я. – Раскладывает по порядку и держит в сундуке.
Отец посмотрел на меня, глаза его сразу повлажнели, однако ж он сдержался.
– Нет на свете никого дороже родителей, – наконец выдавил он срывающимся голосом. – И никто на свете их не заменит. Никто… Я в долгу перед ними, не выполнил того, что намечал, силёнок не хватило. Ни я, ни младший мой брат не должны были переселяться в город и бросать их. Помню, брат впервые приехал в Сумгаит. Жили мы в бараке, газа ещё не было, пошли к трубопроводному заводу за дровами. Шагали по рельсам, и по обе стороны гнили под открытым небом горы брёвен. Их разбирали все кому не лень, на это не обращали внимания. Брат сел на пенёк и заплакал: «Бросили папу одного, сами приехали». Но потом он изменился, город людей меняет, делает грубыми, чёрствыми, бессердечными. Брат был прав. Бросили мы родителей одних. Виданное ли это дело, поднять на ноги восьмерых и на старости лет очутиться в одиночестве? Ни в какие ворота не лезет. Вспомню, как они жили, сердце от боли сжимается.
Я взглянул на отца.
– Ты как-то не так на меня посмотрел.
– Тебе показалось, – растерялся я. – Рассказывай.
– Значит, так, – продолжил отец, – сын их– Аркадий, я его даже не видел, был он, по словам мамы, красивым, смышлёным мальчуганом. Ходил в первый класс и вдруг плохо себя почувствовал. Врача в деревне не было, мальчика повезли в Верин Оратах или, может, в Атерк, уже не помню, в дороге он умер. А Забела, моя сестра, умерла после родов, заснула, да так и не проснулась. Опять из-за нехватки больниц и врачей. Четверо её детей остались брошены на произвол судьбы. А мальчика – того, родив которого, умерла сестра, сдали в детский дом в Шуши. Что с ним сталось, мы не узнали до нынешнего дня. Господи, какая же мучительная жизнь выпала бедной моей сестре! В одном хлеву, в другом хлеву, то в Хор-Дзоре, то в Тхкоте, то в Ферин-Кюмере, голодные, раздетые… Муж её, наш зять Воскан, лудил, перемазанный сажей, посуду за кило картошки или фасоли, порой и того не получал. Наш родич Бахши на войне попал в плен, в сорок девятом его сослали с семьёй в Алтайский край, дом освободился. Одно название – дом, так, жалкая хибара с земляным полом. Сестра перебралась туда. – Отец тяжело вздохнул. – Мне было лет восемь-девять, помню, как их увезли. Дело было летом, в солнечный день. Мы смотрели во все глаза. В один и тот же час тяжёлые «Студебеккеры» выехали из разных кварталов, медленно, как на похоронах, подъехали к колхозной конторе и, не останавливаясь, проследовали один за другим. Они везли нашего Аталамунц Саргиса, Бахши, его семью и старую мать, Балабека со всей семьёй, Вагаршак-даи, Коля-даи. В машинах по обе стороны кузова стояли красноармейцы. Какие дни пережили люди! Камень бы этого не вынес, а человек выдерживает. Дед твой, отец мой значит, который всё это видел и сам исстрадался, наставлял: человеку дано два уха и один рот, чтобы побольше слышать и мало говорить. Что верно, то верно.
Он тяжело поднялся с места и прошёл на балкон. Долго простоял, вернулся хмурый и, усевшись за стол, сказал:
– Когда я приехал в Сумгаит, здание центральной почты только-только начали строить. Посмотри, что отсюда видно. Горком с горисполкомом, огромный клуб завода синтетического каучука, ваша школа, соседние кварталы, доходящие до самого моря, – всего этого не было, мы их позже подняли. Нет здесь ни одного дома, где не остались бы следы моих рук. Чего я только не делал, был и каменотёсом, и плотником, и штукатуром. Такую красоту построили, не город, а куколка. Народ сюда съехался из всех азербайджанских районов. Сейчас двести пятьдесят тысяч душ здесь живёт, а раньше, – отец покачал головой, – раньше тут, кроме песков, бурана да пурги, ничего не видели. А когда сёстры мои приехали, вообще ничего не было. Сотня с лишним длинных дощатых бараков, об удобствах и толковать смешно. Одна колонка на несколько бараков и нескончаемые очереди за водой и для стольких же бараков длинная каменная уборная. И тысячи совсем юных парней и девушек, армян из Карабаха, без ухода и без пригляда, привезённых по вербовке. Армян было до того много, что для них открыли вечерние школы и библиотеку. Позже всё это позакрывали, библиотечные книги тысячами валялись на свалке, мы с товарищем, он был из Неркин Оратаха, крановщик с трубопрокатного завода, сейчас он в Ереване, зовут Илья, в милиции служит, – так вот, пошли мы на свалку и насобирали себе довольно много книг. – Отец встал и снял с книжной полки томик.
– Вот этот сборник туманяновских стихов я там и подобрал, на свалке. А ну-ка послушай, это из песен ашуга Кярама, Туманян обработал текст и вставил его в рассказ «Олень»:
Я видел, господа, весной зеленой-
В этих горах плакала косуля,
Ее малыш в растерянности полной,
Стоял, прижавшись, к матери в слезах…*
До чего же здорово! И трёх сыновей такого человека, между прочим, выпускников Сорбонны и Петербургского университета, большевики сгноили в сибирских лагерях. А вот это, ты только послушай, что за стихи:
Из-за угла укромного
Поднялся наш Чалак,
Идет по лесу темному
За ним мой храбрый брат.
Ясно и просто, так ясно и просто, что чудится, стоит тебе присесть, и ты сам напишешь не хуже. Только ведь это сколь просто, столь и гениально. Послушай дальше:
Мне слышен звон их голосов
В том девственном лесу,
И я зову их вновь и вновь…
Мне кажется, придут.
Напрасно все… они давно
Ушли из наших гор,
Остался звон их голосов,
Что слышен до сих пор…
—————————————————
*Здесь и далее перевод подстрочный.
Читаешь, и комок в горле, словно всё это про наши леса, про моего брата Дживана, которого с тремя сверстниками-односельчанами упрятали за решётку. Они пасли скотину на выгоне и случайно, не понарошку сломали ножку соседскому ягнёнку. Признаться побоялись и привязали ягнёнка к кусту, а вечером пригнали коз и овец в деревню и говорят, ягнёнок, мол, потерялся. Сказать всё как есть испугались. Ну, шум-гам, они в конце концов рассказывают правду. Поутру идут на выгон – у куста не ягнёнок, а только косточки, либо волки сожрали, либо шакалы. Отец купил хозяевам овцу, возместил убыток. Но кто-то из деревенских – то ли сосед Шахназар, то ли Грант из дома на холме, то ли Сугумун из Ферин-кюмера, который мечтал стать председателем сельсовета и таки стал им, – кто-то шлёт анонимку в Баку, в редакцию газеты «Коммунист», дескать, председатель сельсовета Ерванд Арушанян покрывает своего проворовавшегося племянника. Донос переправляют в областную прокуратуру, оттуда в районную. Своего племянника Ерванду кое-как удалось спасти, а двое других – брат и его приятель Армен – угодили в тюрьму, дали им по семь лет. Через четыре года брата привезли домой слепого. Парнишка, почти ребёнок, глаза красивые, распахнутые, да незрячие. Как он любил наши горы да ущелья, на каждый звук из лесу – летучей ли мыши, кукушки ли – норовил отозваться. Из Закаталы повезли его посреди летнего зноя в Баку в закрытом металлическом фургоне, потому-то, говорят, он и ослеп. Поди проверь… Бедный наш отец, чего он только не делал, куда только не возил брата, всё понапрасну. Да и что он мог, нищий безграмотный крестьянин? Брат умер. А приятель его Армен умер ещё в тюрьме. Странное дело, но третий их приятель тоже умер молодым. Когда брата посадили, за нашими свиньями стала присматривать сестра Ася. В лесу, совсем одна. Как мальчик, вскарабкивалась на дуб и стряхивала наземь жёлуди. После Асиного отъезда свиней поручили мне. С деревенскими пацанами мы гнали их в лесную чащу, куда средь бела дня и то не попадали солнечные лучи. Высоченные, чуть не до неба деревья колышутся, бесшумно, плавно, докуда хватает глаз уходят ввысь, временами раздаётся скрип, а потом воцаряется тишь, и только пробегает поверху лёгкий ветерок и шелестят пепельного цвета листья; они клонятся в одну сторону, трепещут, сквозь крону насилу пробиваются солнечные лучи, поблескивают наискось и слепят глаза, кукует сладко, мечтательно и печально кукушка. Какое это было блаженство! На белых стволах бука мы ножом увековечивали свои имена.
– Видел, – вставил я, – на деревьях у ключа Хырма ваши имена красуются до сих пор, разве что зарубцевались.
– Да что ты! – восхитился отец, чуть удивлённо и чуть снисходительно. – Интересно. Сколько времени прошло, сколько всего было, хорошего и дурного, сколько воды утекло, а те деревья стоят себе год за годом днём и ночью, зимой и летом, в непогодь и вёдро, стоят и, словно родная мать, дожидаются тебя. Деревья хранят в сердце наши имена, мы же в сердце и памяти храним их облик и тоскуем по ним… Человек не должен отрываться от своей земли, отчего дома, родимых гор и ущелий, родников и тропинок. Потому что ты счастлив, покамест ощущаешь под ногами родную почву, без неё нет тебе счастья. Где родился и вырос, там и живи, чтобы не изводить себя саднящей болью и тоской по этим источникам, и горам, и теснинам. Попробуй забудь горы нашего Кыгхнахача, наши долины, наши леса, ни за что не забудешь. Армянское горе – безбрежное море, пучина огромная вод. На этом огромном и чёрном просторе душа моя скорбно плывёт . Так-то вот, сынок…
– А почему ты бросил писать? – спросил я, понимая, что этот вопрос долгие годы мучит его самого.
– Чтобы стать писателем, много чего нужно, – сказал отец с улыбкой, в которой читалась грусть. – Писателем станет лишь тот, кому есть что сказать, нечто важное и существенное, кто видит и чувствует нечто такое, чего другие не видят и не чувствуют. Нужен запас жизненных впечатлений и высокая культура, которой не овладеть без образования. Сам посуди, какая у меня культура. За плечами только средняя школа, хотя оценки я всегда получал хорошие. У родителей не было возможности дать мне образование. Я не смог бы дальше учиться, потому что некому было послать мне хоть копейку. Помню, учительница арифметики Лена Арустамян потребовала принести тетрадь в клетку. Мы с отцом отправились в соседнюю деревню Мехмана, там были свинцовые рудники, рабочие получали зарплату. Повели с собой козла на продажу. Отец намеревался продать мясо рабочим, а на вырученные деньги погасить налог за этого самого козла и купить мне тетрадку. Выручка составила всего-то десять рублей, их отец оставил для финотдела, ну а на тетрадку денег уже не хватило. Я обиделся. Отец шёл по дороге, а я по тенистой обочине. Весь обратный путь до самой деревни я проплакал. В шестом классе у меня был замечательный друг Эйлер Юзбашян. Их семья перебралась в Армению, в Эчмиадзин. Летом он приехал в деревню. Возвращаюсь я с поля, мама говорит, мол, Эйлер заходил несколько раз, хочет повидаться. Смотрю из сада – Эйлер у магазина разговаривает с ребятами. А на мне резиновые трехи да латаная-перелатанная одёжка. Застеснялся я подойти. Куда уж в таком положении продолжать учиться? Потому и уехал к сестре в Сумгаит, стал строителем. Вот они, мои произведения, – и отец с горечью обвёл взглядом стоящие бок о бок красивые здания.
– Ах мил-человек, – вмешалась мать, – и тебя жаль, и ребёнка нашего жаль, не надрывай ты себе душу.
– Да что я такого говорю? – стал оправдываться отец. – Принеси-ка чаю, чаю попьём. Завтра схожу позову Аббаса. Два раза встречал его, говорит, как Лео приедет, позови, хочется его повидать.
– И меня просил, – подтвердила мама. – В тот день остановил троллейбус, вышел. Троллейбус битком набит, а он стоит себе, беседует.
– Хороший мужик, – загордился отец, – за друга душу вынет. Сам страхолюдный, а сердце золотое, кристальный человек. Мы четверть века почитай дружим. В одном селе помирал старик. Умирать никому неохота, вот и ему тоже. Просит он Бога: позволь мне ещё немного пожить. Ладно, соглашается Бог, а сколько тебе надо? Вон, отвечает старик, дерево, сколько на нём листьев, мне столько и надо. Нет, говорит Бог, это чересчур. Тогда, предлагает старик, столько, сколько яблок на той яблоне. Смотрит Бог на яблоню и говорит: и это много. Коли так, говорит старик, столько, сколько у меня друзей. На это Бог соглашается. И вообрази, старик этот до сего дня жив, потому что друзей у него, как оказалось, больше, чем листьев на дереве и чем яблок на яблоне… Так-то вот, милый мой. Нет ничего лучше друга. Мы вместе работали грузчиками на трубопрокатном заводе, потом на химзаводе «Почтовый ящик 240», потом я подался в каменотёсы, а он пошёл на курсы водителей троллейбуса. Двадцать лет уже водит он троллейбусы. Что ни случись у нас или у них дома, хорошее ли, дурное ли, мы всегда вместе, всегда не разлей вода. Раньше, ты знаешь, он жил поблизости, в соседней деревне Джорат. Потом город разросся, Джорат и прочие деревни снесли, дали ему квартиру в девятом микрорайоне. Но он-то привычен к земле, к саду, так и живёт на земельном участке, держит несколько овец. Есть у него хороший барашек, чёрный, когда, говорит, Лео приедет, тогда для него и зарежу («Приедем с Реной», – мелькнуло у меня в голове). Очень ты ему по сердцу.
Назавтра ближе к вечеру пришёл дядя Аббас. Высокий, но, точно ребёнок, застенчивый. Я ему в сыновья гожусь, а он и меня стесняется, в разговоре теряется, краснеет. Я вышел проводить его, он застенчиво спрашивает:
– Девушку себе присмотрел?
– Есть одна.
– Да ну? Отец твой не сказал.
– Он ещё не знает.
– Когда привезёшь-то? Поглядели бы. Я для тебя барашка берегу. Привези, познакомимся, хороший повод барашка зарезать да попировать. Что за девушка, хорошая?
– Азербайджанка. Учится в мединституте.
– Родители согласны? – недоверчиво посмотрел он на меня. – У нас на такие вещи косо поглядывают. Сами-то на армянках женятся, а вот дочерей за армянина выдавать не любят. Не беда, – улыбнулся он, – что-нибудь придумаем.
– Что именно?
– Не бери в голову! – Дядя Аббас легко рассмеялся, обнял меня. – Либо умыкнём, либо пойдём сватать, я скажу, что ты мой сын.
*******
Домой к себе я не зашёл, прямо с автостанции направился в редакцию, хотя было довольно рано и вряд ли кто-нибудь из сотрудников уже явился. Но нет, Арина была на месте, наверное, только что пришла, прихорашивалась перед настенным зеркалом в общем отделе – подкрашивала губы и по ходу дела напевала: «Пойдём, сынок, пойдём в наш край».
– Здравствуй! Что-то ты сегодня рано.
– Ох, – отпрянув от зеркала и прижав руки к груди, вскрикнула Арина, – как же я испугалась. Чуть сердце из груди не выпрыгнуло.
– Скорую не вызвать?
– Не вызвать? – скривив рот, передразнила она меня. – Вызывай. А ты почему спозаранок? Похоже, всю ночь не спал и думал о Сильве.
– Может, и так. Она что, не придёт сегодня?
– Нет. Муж не пускает. – Что-то вспомнив, Арина поспешно отворила дверь комнаты, извлекла из папки на столе знакомую мне записную книжку Армена в чёрной обложке и перелистнула несколько страниц. – Вот, Лео, – подошла она ко мне, – посмотри. Твой Армен врун. Он сидел в тюрьме.
– Не может быть.
– Дело тебе говорю, – самоуверенно, тоном человека, знающего цену своего слова, настаивала Арина. – Я изучила эту книжку от и до, проверила пункт за пунктом. Записи, правда, зашифрованы, но я расшифровала. Шесть месяцев, и каждый день взят в чёрную рамку, есть ссылки на две статьи Уголовного кодекса, 163-ю и 159-ю. Первая – воровство, то есть хищение чужого имущества, другая – мошенничество, что в свой черёд означает опять же присвоение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. Строки воровской песни «В Магадане снег идёт», чьё-то женское имя – Шогик. Написано в перевёрнутом виде, так что прочесть можно только в зеркальном отражении. «Не плачь, дорогая, не плачь, откроется эта дверь, и тот, кто её закрыл, её отворит, поверь». В одном месте написано: «Тюрьма – целый мир, а мир – большая тюрьма». В другом: «Поезд прикован к рельсам, он арестован, как я». Что ты на это скажешь? И самое главное, стихи, они, должно быть, обращены к Шогик:
Знаю, милая, ты
Стосковалась по мне,
Но вернусь я нескоро,
Потому что в тюрьме
Слишком прочны запоры,
Мне их не отворить…
Ну, что скажешь?
– А… Как же его выпустили?
– Уголовным кодексом это предусмотрено. Кто впервые совершил лёгкое или средней тяжести правонарушение, может быть освобождён от ответственности, если помог следствию раскрыть преступление или примирился с потерпевшим и каким-то способом возместил причинённый ущерб. Или, скажем, если стало ясно, что в силу изменившейся обстановки он более не представляет опасности для общества.
– Вот сейчас я, наконец, поверил, что ты и впрямь окончила институт с золотой медалью, – засмеялся я. – Тебе бы работать в уголовном розыске.
– Словом, – с победным видом заключила Арина, – он обманщик и врун, я это доказала. Стишки нам посвящал, Сильва тоже здесь была. Погоди, принесу. – Зайдя в свою комнатку, Арина принялась поспешно выдвигать ящик за ящиком, отыскала листок с машинописным текстом. – Я их напечатала, слушай.
Арина – страстная смуглянка,
Горячая, как индианка.
Она подняла глаза, приоткрыв рот, кокетливо посмотрела на меня и продолжила:
Лоранна – роза белой масти,
Глаза прекрасны у Лоранны,
А Сильва – воплощенье страсти,
Её движенья так желанны.
Чуть-чуть медлительна и в теле
И рождена лишь для постели.
В коридоре послышался голос и непринуждённый смех Лоранны, она с кем-то разговаривала
– Вы, похоже, здесь и ночевали? – весело и с обаятельной улыбкой спросила она.
– Да, – мгновенно среагировала Арина, – так оно и есть.
– Бессовестные! А мне почему не сказали? – Лоранна быстро приводила себя в порядок перед зеркалом, придирчиво осматривала лицо и причёску. – В определённом возрасте женщина должна быть красива, чтобы стать любимой. Но приходит время, когда нужно быть любимой, чтоб остаться красивой… Молодые годы бегут от меня, как горная лань. Я, помню, бежала за ними, пыталась догнать, ах, когда ж это было…
– Третье лишнее, – улыбнувшись после заминки, уколола её Арина.
– Третье – это я? – засмеялась Лоранна и подмигнула мне в зеркале. – Лео, муж рассказал хороший анекдот. – Она с той же обаятельной улыбкой повернулась. – Послушайте. Дело происходит в российской глубинке. Муж уехал на заработки. Ему передают, что жена с кем-то спуталась. Он в бешенстве телеграфирует: «Приеду, выясню, что всё правда, голову отрублю». Садится в поезд, возвращается к ночи, заглядывает в окно – жена милуется с мужчиной. Муж недоумевает: «Может, она телеграмму не получила?».
Анекдот оказался остроумный, мы посмеялись.
– У меня был разговор с Боджикяном, – усаживаясь на место, сказала Лоранна. – Вчера ему звонил наш бывший. Разобижен на нас, мы, говорит, не защитили его от нападок Гурунца. Норе Багдасарян тоже пожаловался. По словам Норы, мы повели себя неправильно. Дескать, мы обязаны были стать на защиту партийца с тридцать девятого года, известного поэта и депутата. Кто бы ей сказал: тебе-то, Нора, что за дело, зачем ты, пожилая женщина, суёшься, куда не просят?
– Вот бы он и правда обиделся и больше не приносил мне свои дурацкие воспоминания, – размечталась Арина. – Воспоминания про то, как ели, пили, умирали.
– Послушай-ка, – сказала Лоранна, – возможно, к его книге нужен эпиграф. Давайте придумаем такой, чтоб в нём было про еду, питьё и… про что ты говорила? Ах да, про смерть. – Она наскоро набросала что-то на бумаге, поправила одно-два слова и протянула Арине. – Ну как, соответствует сути книги?
Арина пробежала глазами строки на листке, засмеялась: «Вполне» и громко прочла:
Как умру, вы на могилу
Приходите с миром,
Принесите бутыль водки,
Мяса, хлеба с сыром.
Арина снова рассмеялась:
– Эпиграф достоин книги. – И добавила с непринуждённым смехом: – А чего это ты так вырядилась, позволительно спросить?
– У меня, Ариночка, сегодня эфир. Весь Азербайджан, а также родной мой Сисиан, где тоже смотрят наши передачи, поглядят на меня и подумают, что когда-то я была молода и красива, а теперь только красива.
С гладкой округлой шеей, округлой и белой, в платье с неглубоким вырезом на груди и со своевольным своим норовом она и на самом деле была красива.
Лоранна грациозно повернулась ко мне:
– Лео, придёшь в режиссёрскую? Чтобы произвести на телезрителей ошеломляющее впечатление, мне совершенно необходима твоя моральная поддержка. Открой сахарные свои уста и произнеси сладкое, как сахар, слово: приду.
– Приду, – улыбнулся я.
– Я так и знала, – кося взглядом, умилилась Лоранна. – Хотя замечаю, что в последнее время ты совсем не обращаешь на нас внимания. Как говорила моя мама, когда дыня поспеет, огурец теряет вкус. – Она снова мне подмигнула и лукаво улыбнулась, давая понять, что знает, о чём или, верней, о какой такой дыне идёт речь.
Я пошёл в свой кабинет.
*******
– Идёшь, Лео? – открыв дверь кабинета, торопливо выпалила Лоранна. – Через пять минут мы в эфире.
Немного погодя я был уже в режиссёрской. Лоранна с актёрами находились в студии.
В ярко освещённой студии Лоранна сидела посредине, актёры – справа и слева от неё, все софиты были направлены на них, и, судя по всему, там стояла жара. Лоранна улыбнулась мне сквозь толстое звуконепроницаемое стекло.
Звукорежиссёр Марк Бронештер подошёл к щиту с мониторами, экраны которых запечатлели сцену; она полностью просматривалась видиокамерами, расставленными в разных точках. Операторы в наушниках передвигали мобильные камеры туда-сюда, показывая участников передачи в разных ракурсах.
Понятия времени и пространства здесь материализуются, и неровное сердцебиение секунда за секундой неотвратимо приближают начало передачи.
За несколько мгновений до него наш режиссёр Жирайр Аветисян – он был прежде режиссёром Бакинского армянского театра, человек в высшей степени воспитанный – предупредил в микрофон: «Внимание! Мы в эфире» – и нажал кнопку. На камерах загорелись красные лампочки. Старик-звукорежиссёр включил музыку, первая камера дала название передачи, а следом – чуть побледневшую и смущённую Лоранну.
– Здравствуйте, дорогие друзья! – зазвучал её певучий голос.
Передача началась. За моральной поддержкой дело не стало, теперь надлежало произвести ошеломляющее впечатление.
Я незаметно вышел из режиссёрской.
*******
Непроизвольно поминутно и беспокойно поглядываю на часы. Сегодня ко мне придёт Рена, и начиная с четверга я думаю об этом с неотступно нарастающим волнением.
Я полагал, она придёт во второй половине дня, но в то же время каким-то шестым чувством угадывал – это случится раньше. Она и вправду пришла до перерыва.
Она появилась совершенно неожиданно, запыхавшаяся, преображённая смущением и ещё больше от этого похорошевшая. Короткое облегающее платье с каймой подчёркивало её тонкий стройный стан и небольшую, как дыньки, круглую грудь.
– Лифт не работает, – сладкозвучно произнесла она, слабо разлепляя розовые губы и не в силах справиться с одышкой. Смотрит прямо. Своенравные глаза смеются. В них умиление, нежность, сласть. Они манят, пленяют, завораживают. И я, невольно поддавшись этим чарам, устремляюсь им навстречу, и сердце замирает от свежести её приоткрытых ослепительных губ.
– Вот я и пришла, – добавила она, откидывая назад золотистые волосы и улыбаясь чуть влажными глазами, белейшими зубами, губами, всем лицом. – Ты не рад мне?
Заворожённый и отстранённый, я смотрел на неё с неутолимой жадностью, словно не видел целую вечность, сердце билось с необычайной силой, я наслаждался тем, как упиваюсь её колдовской красотой, и при этом смехотворным образом страшился, что упоение лишит меня разума.
– Я сбежала с последней пары, – нежно и тихо произнесла она, по-прежнему тяжело дыша.
– Если я тебя поцелую, ты не рассердишься? – дрогнувшим голосом сказал я в ответ.
Не отрывая от меня своих голубых глаз, Рена покачала головой – «нет». Её лицо залила краска.
Позже я не мог обрисовать, как это произошло; ключ с лёгким щелчком повернулся в замочной скважине, в следующий миг я уже обнимал Рену, ощущая пальцами вогнутую линию её хрупкой спины и нежные ямочки у ключиц; её волосы благоухали и щекотали мне лицо, я шептал что-то бессвязное, чего не в состоянии был потом припомнить, осторожно и нежно целовал обнажённые плечи, исходящую ароматом шею; мои губы слепо блуждали по её лицу, страстно искали и нашли её приоткрытые пухлые губы, пытавшиеся поначалу увернуться, но вскоре с готовностью уступившие, покорные и горячечные; её прерывистое дыхание сводило меня с ума, чуть уловимый стон переполнял сластью.
Вот так я впервые поцеловал Рену.
Дни мои не то что проходили, но пролетали, и точно так же моё полное любви и воодушевления сердце, не противясь, летело навстречу Рене. Я безумно любил её, она воплощала в себе женскую прелесть, и не любить её было превыше моих сил, и любовь воистину доводила меня до помешательства. День ото дня Рена по-новому раскрывалась передо мной – с изысканным вкусом и несказанно добрым сердцем, открытая, непосредственная, во всех отношениях привлекательная и при этом обаятельная, любимая и обласканная, наделённая вдобавок тонким чувством юмора и хохотунья. Она с полуслова понимала любую шутку, резвилась и ликовала, и её журчащий смех лучился светом и заражал; ступая легконогой ланью, она, чтобы рассказать что-то, внезапно и грациозно повисала на мне, обхватив руками шею и преграждая путь, и её синие, как небо, глаза искрились и сияли, озаряя чудесное лицо неизбывным светом и шедшей из души красотой.
*******
Жизнь в редакции текла привычным руслом: по понедельникам заседание коллегии, составление плана на будущее, ежедневные часовые радио- и телепередачи на армянском языке, встречи с авторами, утренние летучки.
Наш бывший ещё не закончил свои мемуары и по-прежнему диктовал их Арине, вызывая у той отвращение. Вдобавок однажды он поведал историю, после которой мне тоже трудно стало переносить его присутствие. Накануне Сагумян рассказал, что в своё время крупного литературного и общественного деятеля Егия Чубара, который в тридцать третьем – тридцать шестом годах был замминистра просвещения Азербайджана, и артистку Бакинского армянского драмтеатра Арус Тараян и её восемнадцатилетнюю студентку-дочь арестовали по доносу нашего экса. Во внутренней тюрьме ГПУ девушку пытали, насиловали при матери и почему-то переведённой сюда из Еревана писательнице Забел Есаян, загоняли под ногти иголки; девушку обвиняли в шпионаже, тогда как её вина состояла в одном – она неосторожно призналась кому-то, что мечтает побывать в Лондоне и увидеть своего отца, англичанина Кларка. Красавицу Арус, дочь писателя Седрака Тараяна, ту самую, кому, по словам Сагумяна, некогда в Тифлисе посвящали стихи Сталин и Терьян, тоже пытали на глазах у дочки.
В начале шестидесятых (в пору недолгой хрущёвской оттепели стало можно говорить об этом) Арус Тараян здесь, в редакции, бросила в лицо тогдашнему шефу самые последние слова. Тот покраснел до кончиков ушей, но не нашёлся с ответом. Это случилось в присутствии Сагумяна. «А что было потом? – спросил я. – Дочку Тараян пустили к отцу в Англию?» «Да ты что! – с горечью возразил Сагумян. – Бедняжка сошла с ума после пыток. Одно время лежала в маштагинской психушке, а сейчас… Даже не знаю, жива ли она». «А сама Арус Тараян?» – спросил я. «Умерла в одиночестве и крайней нужде», – ответил Сагумян.
Новая история была связана с некоей девушкой, в которую бывший, по его же словам, влюбился в десятом классе.
– Я ей стихи посвящал, – рассказывал он Лоранне. – Очень была красивая, первая красавица школы. Как-то проходила мимо, я и продекламировал: «Люблю тебя, люблю украдкой, страдаю и ночей не сплю». А она ни с того, ни с сего: «Презираю». Бросила и прошла. Я так и остолбенел. А рядом школьная шантрапа стояла, всё слышала. Эти мерзавцы невзлюбили меня, частенько бывало, то очки у меня отнимут, то плюнут. В общем, издевались. Потом-то я, конечно, с ними поквитался. Забрали их, и след простыл. Словом, я остолбенел. А про себя поклялся: «Я тебе покажу». Со временем узнал, что она вышла замуж, родила ребёнка, муж служит администратором в армянском театре. Пошёл я к Мирзе Ибрагимову, он руководил главным управлением по делам искусства, постарался. В итоге муженька вытурили с работы. Тут же выяснилось, что в театре имелись какие-то нарушения, хищения. Короче, провели проверку, её мужа посадили. Видел я её потом, бывшую красотку, – хихикнул экс, прикрыв рот рукой. – Шла в тряпье, как побирушка. «Помнишь своё “Презираю”?» – спросил я. «Помню, – говорит. – Тогда презирала, а сейчас меня тошнит от тебя». «Ну-ну, смотри не поперхнись». Я сказал это про себя, а сейчас жалею, надо было вслух, верно?
Казалось, Лоранна задыхается, она хватала ртом воздух, как рыба на берегу, и обмахивалась.
– Дайте сигарету, пожалуйста! – взмолилась она.
– Ты же не куришь, – удивился бывший.
– После ваших историй не то что к сигарете, к наркотикам потянет, – грубо сказала Лоранна и спешно покинула комнату.
Через минуту вышел и я, направился через полутёмный коридор к главному. Лоранна сидела там и курила.
– Ничего-то вы про него не знаете, – вздохнул главный. – писателей и поэтов Маргара Давтяна и Геворга Петросяна он довёл до смерти. Не говорю уж о его происках против Баграта Улубабяна, Аршавира Дарбни, Абраама Бахшуни, Эльмира Мкртчяна, Самвела Кнаруни, Эммы Петросян и Амо Амирханяна. Амирханяну пришлось бежать в Ереван, не стал даже дожидаться выхода своей книги; её, между прочим, просто вычеркнули из плана. Он годами преследовал Востика Каракозяна, работавшего в журнале «Гракан Адрбеджан». Как-то раз Востик вышел после работы на улицу и прямо перед Домом писателей замертво рухнул на тротуар. Сиявуш Сарханлы из журнала «Улдуз» взволнованно звонит ему: мол, ваш сотрудник лежит здесь мёртвый. Догадайтесь, что он ответил. А вот что: «Считайте, что сдохла собака». И кладёт трубку. А когда-то они были близкими друзьями, он в доме Востика дневал и ночевал. А что делать? Он же член президиума Верховного Совета, двадцать с лишним лет редактировал журнал, столько же проработал здесь, полвека в партии, народный поэт. Хочешь, не хочешь, а терпи, пока…
– Пока что? – Лоранна поняла его. – Не надейтесь, он не умрёт. Неужели в этом огромном городе не нашлось армянина получше, чтобы выдвинуть в депутаты?
– Если он всё же умрёт, изберут Тельмана, – сказал я.
Искренне расхохотавшись, главный кивнул в знак согласия – так оно и будет. И тут, что называется, лёгок на помине, появился Тельман Карабахлы-Чахальян, весь какой-то потерянный, с всклокоченными густыми бровями и поджатыми губами.
– Убью, всё равно убью, – задыхаясь, твердил он. – Погоди у меня, Геворг Атаджанян, увидишь, я с тобой такое сотворю… Когда наконец вернётся из армии Мнацакан, чтоб убрался из отдела этот баран…
– Садись, Тельман, ты уже в рифму заговорил. Что стряслось? – обеспокоенный с виду, главный изо всех сил сдерживал смех.
– Я застукал жену, – присев на краешек длинного стола, прерывистым от расстройства голосом сказал Тельман. – Что женщина порушит, того Бог не отстроит. Ох, застукал…
– А куда ж она шла? – наивно спросила Лоранна, отгоняя дым от глаз.
– Да куда ей идти, – взбесился Тельман и, что было сил, хватил себя по колену. – Ты что, без царя в голове, что ли? Дома я её застукал. Соседа позвал в свидетели, он всё видел…
Из бессвязных слов Тельмана выяснялось, что он поймал свою благоверную с другим, и будь этот негодяй простым смертным, Тельман порвал бы его на куски. «Голову бы ему расколошматил», – шипел он. Но любовником оказался сотрутник комитета госбезопасности Сафар Алиев, отмеченный большой чёрной родинкой на щеке. Мерзкий тип, он приехал из Армении и по-армянски говорил чище любого из сотрудников нашей редакции.
Лоранна знала его, прежде он частенько захаживал к нашему бывшему, и мы, разумеется, смекнули, с чьей подачи и с чьей помощью попал в армянскую редакцию Тельман Карабахлы-Чахальян. Однако попользовался ли бывший прелестями молодой Тельмановой жены, осталось неизвестным, хотя все мы склонны были думать, что без этого не обошлось, тем паче Лоранна раза два засекла, как они шушукались у бывшего в кабинете.
– Человеку в годах не дело жениться на молоденькой, – расфилософствовался Тельман. – Потому как ты ещё жив, а она только и думает, как устроится после твоей смерти.
*******
В редакции, несомненно, уже знали о моей любви. Главный с улыбкой сказал: «Не сглазить бы, выбор хоть куда».
В коридоре Нора придержала шаг, как обычно, склонив набок голову, левой рукой подпёрла щёку и, покачивая плечами, успела попрекнуть на своём гадрутском наречии: «Лео-джан, хороший ты мой, все в нашей редакции знают, как я тебя уважаю, сильно-сильно уважаю, но что ты позабыл про родную кровь и положил глаз на девушку другого рода-племени, вот это я тебе никак не прощаю».
Одна лишь Арина ничего не говорила. Словно не замечая, смотрела исподлобья и докдадывала: «Вчера какая-то девушка звонила, тебя не было». Не говорила кто, хотя и знала, по голосу узнавала. Как-то Лоранна сказала:
– Вижу, Лео, это слепому видно, что ты любишь эту девушку. Но намотай на ус, ради единственной улыбки тебе придётся пролить море слёз, потому что большая любовь сама по себе слёзы и боль. И мне почему-то кажется, что эта любовь непременно принесёт тебе не только радость, но и муки. Смех, упоение, счастье, но и слёзы. И не знаю, достанет ли у тебя сил справиться со всем этим.
Я не обратил внимания на цыганские гадания Лоранны, каждая минута с моей голубоглазой красавицей доставляла мне безграничную отраду, в ней заключалось всё моё существо, душа и сердце, я больше не мыслил без неё своей жизни, и как же мне было приятно, когда, словно угадав, о чём я думаю, Рена ласково прошептала однажды: «Ни дня не проведу без тебя».
– Ты тоже полюбила меня с первого взгляда? – спросил я с шутливой самоуверенностью.
– Да, – счастливо и нежно сказала она, прижавшись ко мне. – Не знаю, как это получилось, мне понравилось твое замешательство и то, что ты не хотел, чтоб я позвонила какой-нибудь девушке; впрочем, если бы ты и настаивал, я бы всё равно не позвонила. Я нравилась тебе, чувствовала это и наслаждалась. И подсознательно понимала, что ты потому и не хотел, чтоб я кому-то звонила, не хотел мне изменить. Это так?
– Это так, – покорно сказал я, с упоением целуя её благоухающие волосы цвета сочащегося майского мёда.
– Может быть, я потому и согласилась пойти в ресторан, не знаю. Помню, что всё время порывалась встать и выйти из твоего кабинета, но не могла. Разум велел мне: вставай, сердце велело: сиди, я колебалась и не двигалась с места. Вот какая борьба происходила во мне, – подняв лучистые глаза, улыбнулась Рена. – Смешно, правда?
– Нисколько не смешно. Ну хорошо, а что ты нашла во мне? – Я сказал это просто так, не пытаясь, по всей видимости, покичиться, мне всего-навсего хотелось ещё раз услышать из её дивных губ, что она на самом деле меня любит.
Рена подняла голову с моей груди, посмотрела на меня светозарным взглядом и ответила вопросом на вопрос:
– А что нашла Эсмеральда в горбатом Квазимодо?
Блеск! Она сравнила меня с глухим уродом Квазимодо.
– Благодарю за Квазимодо, – с напускной обидой и возмущением сказал я.
Рена порывисто рассмеялась, прильнула ко мне и, обхватила мою шею руками, коснулась моих губ пылающими мягкими губами.
– Помнишь, – сказала она, чаруя меня прозрачной голубизной своих глаз, – что ответил Меджнун свому отцу, сказавшему про Лейли: «Что ты в ней нашёл?». «Смотри на неё моими глазами, отец, – ответил Меджнун, – моими глазами». Так что, Лео, мой любимый, мой ненаглядный, – она вновь улыбнулась белозубой улыбкой, – посмотри моими глазами и увидишь, что против Квазимодо ты невероятно красив. – Она нежно провела ладонью по моей щеке: – Пойми, любят не за что-то, просто любят, и всё. Что нашла семнадцатилетняя Ульрика в семидесятилетнем Гёте?
– Гёте был гениальный поэт.
– За что Тургенев полюбил Полину Виардо? Что нашёл он в этой не очень красивой замужней цыганке, почему до конца жизни боготворил её, да так и не женился ни на ком? И что нашли в простой русской женщине Елене Дьяковой две мировые величины Поль Элюар и Сальвадор Дали, которые посвятили ей многие свои произведения, а Сальвадор Дали подписывал полотна двумя именами – своим и этой женщины, которая была на десять лет старше, – Сальвадор–Гала. У султана Шах-Джахана в гареме было свыше трёхсот жён, однако он любил лишь одну из них, кажется, звали её Мумтаз. Скажи, пожалуйста, почему именно её? В память о скоропостижно скончавшейся любимой жене он соорудил в Агре мраморный пятикупольный мавзолей, известный всему миру как Тадж-Махал, и, укрывшись там, не захотел больше кого-либо видеть до самой смерти. Любят не за что-то. Человек влюбляется непосредственно, без вопросов и раньше, чем поймёт и осознает, что влюблён. Почему это так, не знаю, но то, что любовь на самом деле рождается стихийно, порою даже инстинктивно, ведомая непостижимой высшей энергетикой, – отрицать это невозможно.
– Сдаюсь, убедила, – со смехом сказал я, – но за Квазимодо всё равно не прощу.
Рена вдруг укусила меня за палец и засмеялась.
– Рен, ты что, собачка? – возликовал я.
– Только сейчас это понял? – с алыми губами, светлоликая, ликующая, она с гримаской показала мне язык и снова рассмеялась.
Что может околдовать сразу, если не сводящий с ума волшебный смех любимой девушки?
Я медленно и с нежностью скользнул пальцами по сочным, как у Мишель Мерсье, тёплым её губам, даже не пытаясь и не умея скрыть своё восхищение.
Рена нежно целовала мои пальцы, покусывая их влажными губами и глядя на меня улыбающимся взором.
Ах, прекрасная моя Рена, до чего же ты прелестна – талия тонка, губы улыбчивы, стан строен, глаза красивы, я люблю тебя бурно и страстно, только тебя на всём свете, тебя я люблю, дивная моя, иди же ко мне, иди, дабы я лобзал твои душистые как роза уста, я готов умереть во имя твоё… Господи, она воистину сводит меня с ума своими ослепительными чарами, прихотливым своим обаянием.
*******
Мы встречались по субботам (в Ренины библиотечные дни), на прогулочном катере плыли навстречу отрывистым крикам белокрылых чаек и музыке к отдалённому островку Наргин, лакомились в прибрежных кафе мороженым, с высоких холмов парка имени Кирова, стоя в обнимку, смотрели на затянутый голубоватой дымкой засыпающий огромный город и набегающее белыми волнами на берег море, спокойное все эти месяцы, долго наблюдали, как багровые всполохи закатного солнца воспламеняют на западе всё небо и как, меняя краски, посверкивает и лучится море.
Там-то, в парке Кирова, в дебрях аллей, волнуясь и краснея, Рена и выразила замысел, то ли где-то вычитанный, то ли услышанный в кино, то ли зародившийся в ней самой. «Если что-то скажу, ты со мной согласишься?» – спросила она.
Ещё не догадываясь, о чём пойдёт речь, я ответил утвердительно, поскольку был уверен – что б она ни сказала, я непременно соглашусь.
Она медленно достала из сумочки безопасную бритву в яркой обёртке, так же неспешно высвободила её из упаковочных конвертиков – один из них был прозрачным, – убрала их, бритву дала мне и одновременно подставила запястье ладошкой кверху.
– Чиркни лезвием вот здесь, поперёк жилок, – Рена показала, где именно следовало сделать надрез.
– Зачем? – удивился я.
– Никаких «зачем», – широко улыбнулась Рена, – ты ведь обещал.
Но вместо надреза я вожделеющими своими губами прикоснулся к её запястью:
– Не буду, не могу я причинить тебе боль.
Рена засмеялась, заглянула мне в глаза своими, затуманенными умиленьем, и, взяв у меня бритву, провела ею по руке; на белом её запястье тут же появилась алая кровь.
– Знаешь ли ты, что в артерию кровь не втекает, а входит прерывистыми волнами, как вода выливается из бутылки с узким горлышком? Каждая волна за короткое время расширяет стенки артерии и стремится вперёд, отталкиваясь от последующих волн. Дай-ка руку, – велела Рена, глядя на меня улыбающимися глазами и прежним способом – опять же поперёк жил, надрезала мне руку. И крепко прижала её к своей руке.
– Лео, – шепнула Рена, прижавшись ко мне, – моя кровь течёт сейчас к твоему сердцу, ты чувствуешь? Я ощущаю струение твоей крови по моим жилам. Эта мысль сводит меня с ума.
По телу пробежала непередаваемая сладостная дрожь, охватившая всё моё существо. Мы стояли, поглощённые, возможно, важностью, возможно, торжественностью минуты, свободной рукой я прижал Рену к груди и, кажется, чувствовал неудержимый безумный бег своей закипающей желанием крови к её нежному сердцу; Рена потянулась багровыми страстными губами к моим губам. Наши губы слились. Это длилось долго. Я исступлённо целовал её, крепче и крепче сжимал в объятьях, словно пытаясь уместить в сердце, втиснуть в самую глубину души. Самозабвенно и горячечно шептал:
– Ты дорога мне, Рена, и будешь дорога вовеки, я буду любить и защищать тебя до последнего своего вздоха; да, ты дорога мне, мне дороги все, кто тебе близок, кто тебя окружает, кто соприкасается с тобой и с кем соприкасаешься ты, всё, что тебя радует, волнует и восхищает.
Я говорил ей бессвязные эти слова в дебрях аллей парка имени Кирова, и где-то далеко, не то за оградой парка, в одной из припаркованных на улице машин, не то из какой-то высотки звучал магнитофон, и до нас доносилась песня: «Ах, пленили меня эти синие, синие очи, я забыть их не в силах…», и она была про Рену, про её синие, синие глаза. Я испытывал признательность Армену за свою удачу, за своё счастье. Та ресторанная история представлялась мне забавным приключением, декламация стихов о Карабахе – невинным розыгрышем, посвящение девушкам, скроенное по мотивам «Дон Жуана» – мальчишеской шуткой.
*******
Рена сказала по телефону:
– Завтра познакомлю тебя со своими родными. – И засмеялась.
– Рен, я последнее время не различаю, где ты шутишь, а где серьёзна. Ты это всерьёз?
– Не хочешь – не буду знакомить, – опять засмеялась она, тихонько добавила: «Цавед танем» и положила трубку.
«Она вправду решила свести меня с ума, – смеясь, подумал я, – и, к счастью, у неё это получается».
Назавтра она пришла с ясной сияющей улыбкой во всё лицо. Волосы красиво собраны на затылке, беломраморная лебяжья шея открыта; она торжественно села напротив и вынула из сумочки целую пачку фотоснимков.
– Здесь вся моя родня, – с улыбкой сказала она, раскладывая фотографии на столе. – Прошу познакомиться. Пока что заочно, – со смехом уточнила она. Я принялся раcсматривать карточки.
– Это мой брат Расим, он пятью годами старше меня и работает в энциклопедии. Похож на меня?
– Немного. – С фотографии из-под чёрных бровей на меня хмуро смотрел брат Рены – высокий, широкоплечий, с ухоженными чёрными усами. Глаза у него тоже были чёрные, выразительные. Да, улавливалось отдалённое сходство с Реной. Но, пожалуй, сестра Эсмира с юной своей красотой больше походила на Рену, различала их смуглость Эсмиры. На продолговатом, овальном смуглом личике немного великовато выглядел рот с припухлыми, как у Рены, губами, причём нижняя была чуть более пухлой.
– На четыре года моложе меня, учится в девятом классе, – положив тёплую ладошку мне на руку, склонившись у моего плеча к столу, обдавая меня несказанным своим дыханием и жаром мягкой груди, поясняла Рена. – Страшно избалованная, потому что младшенькая в доме, мы её без памяти любим. А язык… Язычок у неё длинный, острый. День её не вижу – до смерти скучаю.
На другом снимке Эсмира сидела в кресле – нога на ногу, чёрные прямые волосы ниспадают на ворот, а со вкусом сшитое платье облегает её ладную фигурку, подчёркивая острые маленькие грудки. Своими крупного прекрасного разреза глазами, с насмешливой улыбкой на припухлых губках она смотрела прямо на меня.
– А это жена брата, Ирада. Знал бы ты, какой у неё мягкий характер. Брат не позволяет ей работать, хотя у неё высшее образование. А это мама, преподает в нефтяном техникуме. Это отец. Закончил педагогический институт, но по специальности никогда не работал, всегда в разных областях. Правда ведь, Расим похож на отца? Мы с Эсмирой на него не похожи, зато Расим похож.
Я разглядывал снимки, предвкушая день, когда повстречаю их воочию – семью Рены, которая казалась и мне родной.
Мне на самом деле повезло вскоре повидать их. Конечно, не всех. Мы говорили с Реной по телефону, и мне почудилось – она не в настроении, чем-то озабочена.
– Что случилось, Рен? – обеспокоенно спросил я.
Рена поведала, что знаменитая группа «Бони Эм» совершает с однодневными концертами прощальный тур по крупнейшим городам мира и после Москвы, Ленинграда и Киева посетит в конце месяца Баку, откуда полетит в Китай. Однако билеты уже распроданы. В институте ей обещали, да ничего не получилось.
– По правде говоря, нам с Ирадой очень хотелось попасть на концерт, но на нет и суда нет. Но мы-то ладно, – безнадёжно молвила Рена. – Раздобыть бы хоть один, для Эсмиры. Она прямо-таки грезит этим концертом, кое-кто из её одноклассников, один–два человека, билеты достали. Ну, раз они пойдут, она, хоть умри, тоже должна попасть. Уже два дня, как малое дитя, ноет и ноет, и глаза на мокром месте. Расим сколько ни бился – всё впустую.
Я ни слова не сказал Рене, но, положив трубку, срочно принялся действовать. Звонил туда и сюда – бесполезно. Ткнулся к главному редактору, вдруг он как-то поможет. Из командировки только что вернулся Тельман Карабахлы-Чахальян и, обмахиваясь соломенной шляпой, подобострастно рассказывал, мол, привёз «потрясающие ребордажи» о табаководах из Дрмбона и Атерка, что в Мартакерском районе, и, мол, возле Дрмбона посеяна ежевика на загляденье, да он про это не написал, а только лишь о табаководах. Главный смотрел на него, весь в себе, задумчивый, и ничего не говорил. Мне стало его жаль, я возвратился к себе и позвонил Сиявушу в Союз писателей.
– Сиявуш, мне нужно три билета на концерт «Бони Эм». Если сделаешь мне это одолжение, я всю жизнь буду думать о том, что делать, чтобы не остаться в долгу перед Сиявушом.
Сиявуш искренне расхохотался.
– Старик, – сказал он, – чего не пробьёшь ломом, пробьёшь сладким словом. Однако Сиявуша сладким словом не улестить, он предпочитает свежие кябаб и шашлык да добрую водку.
– Будут тебе хоть десять бутылок отборнейшей водки и двадцать шампуров кябаба с шашлыком. Только достань мне три билета.
– Перезвоню тебе через полчаса, – сказал он. – Ты дома или в редакции?
– В редакции.
Про себя я решил, что, в крайнем случае, возьму билеты прямо у дворца Ленина, с рук, и втридорога, и за любые деньги.
Через полчаса Сиявуш не позвонил. Позвонил он ровно через полтора часа.
– Старик, позвонил я в Москву, – медленно начал Сиявуш, и я мысленно засмеялся, такая уж у него была особенная привычка – всё начинать издалека, так сказать, от Великой китайской стены.
– В Москве-то тебе что понадобилось? Хотел с гастролёрами потолковать? Они до Москвы пока не доехали.
Он засмеялся.
– Молодчина, за словом в карман не полезешь. Имей терпенье, старик, терпенье и труд всё перетрут. Кюбра-ханум, управделами Союза писателей, приберегла три билета для председателя, а тот в Москве. Вот я и позвонил ему, попросил эти билеты. Но с условием, что ты переведёшь на армянский одну из его вещей. Он сказал, что ты перевёл уже какую-то его повесть. Это какую?
– «Я, ты, он и телефон».
– Неплохая вещица. Переведи лучше «Юбилей Данте».
– «Юбилей» на армянский уже переведён.
– Ну, тогда переведи «Белую гавань». Отличная повесть, премию получила.
– Не морочь мне голову, Сиявуш. Короче, как ты договорился?
Сиявуш захохотал в полный голос.
– Чего там договариваться? Билеты у Сиявуша. Ты-то своему слову хозяин, а?
– О чём речь!
– Аббаса Абдуллу ты знаешь?
Я засмеялся.
– Ты его знаешь как поэта и главного редактора журнала «Улдуз». Но для нас он не поэт и не редактор, а водитель. Беру его с собой, чтобы не тратиться на такси. Через полчаса мы у тебя. Ну а там решим, куда идти.
Мне не хотелось звонить Рене, пока не увижу своими глазами билеты.
Получаса не прошло, уже через четверть часа Сиявуш и Аббас были у меня в редакции.
– Не опоздали, нет? – глянув на часы, сказал Сиявуш. – Этого ещё не хватало, чтоб Аббас на дармовое угощенье опоздал, – засмеялся он. – Что ему красный свет? На спидометре сто двадцать было.
Мы обнялись, Сиявуш отдал мне билеты.
– Старик, два билета – понятно, а третий-то для кого?
– Для будущей тёщи, – сказал Аббас, поправляя на носу очки и улыбаясь сквозь по-шевченковски густые усы. За переводы украинских стихов с оригинала он удостоился недавно премии имени Шевченко, прицепил к пиджаку нагрудный значок размером с пуговицу с изображением
Шевченко, и они оказались очень похожи – те же обвислые усы, та же лысина и тот же пристальный взгляд из-под лохматых бровей.
– Старик, если она дебелая пышечка, прихвати меня с собой, ты же знаешь, что Сиявуш неравнодушен к упитанным женщинам.
– Лео, когда здесь гастролировала Зыкина, этот чудак ни одного концерта не пропустил, – сказал Аббас.
– В самом деле? – засмеялся я.
– Конечно, – с довольной улыбкой кивнул Сиявуш. – Груди большущие, точь-в-точь у Памелы Андерсон, каждая как у Аббаса голова, ходит по сцене величаво, плавно.
– Зыкина со сцены сказала: «Не знала, что в Азербайджане так любят мои песни. Что вам спеть?» А зал в ответ: «Да не надо петь, ты просто ходи по сцене туда-сюда», – засмеялся Аббас.
Высокий, красивый, симпатичный, но несерьёзный, вечно несерьёзный Сиявуш захохотал:
– Есть местные бараны, не мериносы всякие там, а местные, со здоровенным двухпудовым курдюком. У мужней жены такой вот пышный зад должен быть. Утречком, уходя на работу, слегка шлёпнешь, уйдёшь, придёшь – он всё ещё колышется. – Он опять захохотал: – И мы, и армяне за пышнотелую бабёнку жизнь отдадим. Так, Лео?
– Не так, – сказал я.
– Ну, ты, стало быть, исключение, – отступил Сиявуш. – Ты худеньких любишь. Слушай, Аббас, – он резко повернулся к Аббасу и весело сказал: – Смотри и мотай на ус, что значит цивилизованная нация. Глянь, какой у Лео кабинет – паркет блестит, ворсистые шторы, кондиционер, японский телевизор, отличного качества репродукция «Девятого вала» и календарь с большим сексуальным ртом Софи Лорен на стене, мягкий диван для приятных утех. Не то что твоя комнатушка – пропадает в грязи, пыли да табачном дыму, на столе чёрт ногу сломит. Смотри и учись, пока я жив.
– Сиявуш, – мягко, с улыбкой на добродушном лице сказал Аббас, – услышу ещё хоть слово – в ресторан отправишься пешком. Я что-то не пойму, – продолжал он с прежней улыбкой. – Лео нас от души приглашает, можешь ты мне втолковать, к чему эта дешёвая, полкопейки на старые деньги, лесть?
Сиявуш засмеялся.
– Лео, неужто ты сядешь в Аббасову машину? «Жигулёнок» времён Надир-шаха, все его «Кадиллаком» дразнят. Раз десять переворачивался и в аварию попадал, крутишь руль влево – идёт направо, крутишь вправо – налево.
Аббас мягко улыбнулся из-под усов.
Дребезжащий звонок телефона настоятельно призвал меня. Я снял трубку.
– Здорово, ахпер*! —Это был Сейран Сахават со второго этажа, из главной редакции драматических передач. – Лео, я разыскиваю Аббаса, позвонил в «Улдуз», сказали, мол, он с Сиявушем пошёл к тебе. Обещал в этом номере напечатать два моих рассказа, но ребята говорят, что пришла корректура, их там нет. Надо бы узнать, в чём дело.
Сейран говорил громко, и Сиявушу с Аббасом всё было слышно. С усмешкой сквозь усы Аббас сделал рукой отрицательный жест.
– Их нет, Сейран, – я беззвучно засмеялся. – Должно быть, ещё в дороге.
– Не ври, – громче прежнего сказал Сейран. – Мне в окно видно – на улице припаркован раздолбанный красный «Кадиллак», значит, явились, не запылились. Будь человеком, дай ему трубку. Похоже, выпить-закусить собрались.
– В Багдаде хурмы полно, тебе-то что.
– Ну, Лео, знай, что могу уехать домой. Уеду, а тебя сто лет не прощу, сто лет с тобой говорить не буду, – деланно пригрозил он. Признайся, намылились пить?
– Возможно.
– Ни стыда, ни совести у людей. А я? – взмолился Сейран. – Меня не прихватите?
– Прихватим, если ты хотя бы малую, малую, малую толику расходов на себя возьмёшь.
– Я? На себя? – хмыкнул Сейран. – И не надейтесь, у меня ни гроша.
– Так с какой же ты стати отказался от своей благозвучной фамилии Ханларов и взял псевдоним Сахават**. Какой из тебя сахават, скажи на милость? Назовись ты Сейран Хасис*** , это б тебе больше подошло.
– Вуай, вуай, вуай, – будто б удивился Сейран, причём на армянский манер. – Что ж это творится, куда я попал? – по-армянски возопил он сквозь смех. – Это я-то скупой? – снова перешёл он на азербайджанский. – И тебе, Лео, не совестно? Да насобирай я там и сям бутылок из-под водки, которой угощал других, и сдай их, купил бы на эти деньги корову с телёнком. Загнал
бы корову с телёнком, купил бы на эти деньги на базаре в Агдаме новенький «Запорожец» и, чем угодно поклянусь, подарил бы Аббасу, чтоб он плешивой своей головой и красным «Кадиллаком» не позорил нас перед армянским народом. Трём жёнам алименты плачу, что вам от меня надо?
Аббас, который, наклонив лысую, с несколькими волосками голову, приоткрыв рот и улыбаясь, слушал Сейрана, при последних его словах громко рассмеялся и, согнутый в три погибели внезапным приступом кашля, шагнул к окну.
– Ну, так и быть, – сдался я, – спускайся к машине, едем.
Сиявуш секунду-другую внимательно взирал на Аббаса, который всё ещё задыхался от кашля, а потом с любовью и насмешкой сказал:
– Старик, этот вроде как отдаёт концы, зря я его привёл. Хочешь, не хочешь, надо ехать на такси.
– Не валяй дурака, – побагровев и тяжело дыша, беззлобно отмахнулся Аббас и хрипло скомандовал: – Пошли, Лео, не то тут объявятся ещё два пустомели наподобие вот этого и Сейрана.
– Айн момент, – сказал Сиявуш и, сдвинув пальцем вверх очки, задорно поглядел на меня. – Старик, Аббас это знает, я тебе расскажу. Есть у меня в Москве два приятеля, вместе учились. Прилипли ко мне нынче зимой, когда я
был там, мол, давненько мы в ресторане ЦДЛ не бывали. Ну, повадки москвичей известны – они сюда приезжают, угощаем мы, мы туда едем, то же самое – угощаем мы… Словом, неподалёку от ЦДЛ есть большой гастроном,
——————————————-
*Ахпер (арм.) — братец, приятель.
** Сахават (азерб.) -щедрый
*** Хасис (азрб.) –жадный, скупой
там и условились встретиться. Получилось так, что пришёл я очень рано, стою у гастронома, жду их. Холод собачий. А там очередь за водкой, хвост между домами тянется чуть ли не до проспекта Калинина. Вижу вдруг, один направляется прямо ко мне. Ясное дело, выпивохам недостаёт третьего, и этот – в чёрном пальто, в шапке-ушанке и с бородой – нашёл именно меня.
– С первого взгляда понял, что перед ним простак, – прокомментировал Аббас, но Сиявуш, не обращая на него внимания, воодушевлённо продолжал:
– Словом, старик, на бесприютного пьяницу он вовсе не походил, всё честь по чести, трезвый как стёклышко, приличный вид, Аббас рядом с ним – всё равно что бомж опустившийся, – с удовольствием уколов друга, хохотнул Сиявуш. – Ну, слушай. «Нет ли у молодого человека мысли немного согреться в этот мороз?» – интересуется. «Не помешало бы», – говорю. Сам не пойму, почему так ответил. Со мной иной раз случается, плыву по течению и не отдаю себе отчёта – куда, зачем. Тот повернулся, позвал одного. В Москве пол-литра на троих – обычное дело. Взяли они деньги, пошли в магазин. Я поджидаю их на улице и сам над собой посмеиваюсь, что поневоле связался с совершенно незнакомыми людьми. Время проходит, пора б им уже подойти. Жду, а их нет и нет. Притопываю от холода на месте, даже думаю – может, у магазина есть и другой выход, они взяли водку да и ушли. Мысль эта меня прямо взбесила, и в этот самый миг вижу – бородатый вышел из магазина. Надвинул ушанку на глаза, идёт и, не останавливаясь и мельком на меня взглянув, быстро шагает мимо. Меня это порядком удивило, но, думаю, водку-то дают из-под полы, так, наверно, и надо, чтобы милиция не заметила. Третьего не было, и я снова подумал, что это, наверно, тоже вид конспирации. Бородатый прошёл к соседнему дому, зашёл в парадное, ну а следом я. Поднимается он по лестнице и оглядывается, видно, думаю, третьего ждёт. Поднялись на третий этаж, я тоже гляжу вниз – нет ли третьего. Пока я глядел вниз, дверь открылась, бородатый оказался внутри, а дверь захлопнулась. Сиявуша, старик, всё равно что кувалдой по башке саданули, опешил я. Пришёл в себя, легонько стучу в дверь; ни звука. Меня снова бешенство захлестнуло. Ясное дело, обвели вокруг пальца. Стучу сильнее. «Тебе чего?» – спрашивают из-за двери. «Мою долю водки», – говорю. «Сейчас милицию вызову, там тебе покажут». Видимо, бородатый. Тут я вконец себя потерял. Получается, дурят тебя средь бела дня да ещё милицией стращают. «Вот что, либо стакан водки, либо я дверь высажу», – повторяю я как заведённый и барабаню в дверь кулаками и ногами.
– Надо было головой биться, – хихикая, посоветовал Аббас. После приступа кашля он боялся смеяться в голос.
Сиявуш крякнул и продолжил:
– Ума не приложу, Лео, что на меня нашло. Наконец дверь приоткрылась, но цепочку не сняли, в проём подали мне изящный чайный стакан с водкой: «На, подавись». Взял я полный этот стакан и, как отпетый забулдыга, разом осушил его… Всё прояснилось, высветилось и стало на свои места. Какая там ярость, какое бешенство, всё прошло, мир покоен и прекрасен, люди добры, милы и любезны, и в приподнятом и триумфальном настроении, поскольку им всё же не удалось одурачить меня, сам над собой посмеиваясь, я вышел на улицу, и вдруг, старик, меня аж пот прошиб, глазам своим не верю – бородатый с приятелем с бутылкой в руках ищут меня… Я обознался, – качая головой, засмеялся Сиявуш. – Ну, такое же в точности чёрное пальто, меховая шапка, – оправдывался он. – Послушай, мы же не решили, куда идём.
– Куда угодно, – всё ещё смеясь, ответил я. – Пойдёмте к вокзалу, там хлеб в тоныре пекут. Или в шашлычную за больницей Семашко, или, коли хотите, в «Караван-сарай», мне всё равно.
– Пошли, – сказал Аббас и первым вышел в коридор.
Я позвонил Рене:
– Передай Эсмире, пусть успокоится. Я взял для вас три билета.
– А ты, Лео? – с искренней нежностью быстро сказала Рена.
– Для меня, Рен, нет большего удовольствия, чем то, что вы все трое пойдёте на этот концерт.
– Цавед танем, – ответила она. И то была величайшая на свете награда для меня.
Поутру в день концерта внезапно поднялся ураган. Я вышел на балкон, откуда в просвете между высоток, как и в редакционном моём кабинете, сверху открывался хоть и неширокий, но всё-таки морской вид. На ночь глядя я частенько наблюдал оттуда величавое движение луны по-над морем, отражённое в умиротворённой воде. Случалось, луна падала с вышины вниз и медленно плыла во тьме по волнам. Ночами там, в морской глуби, явственно различимо мерное миганье маяка.
Сегодня море сумрачно, как и небо, волны дыбились и неистовствовали. Вытянутые в струнку тополя гнулись-изгибались под ураганом, будто вот-вот обломятся.
Позже хлынул ливень. Я стоял, выслушивая непрестанный рёв из водосточных труб.
А потом всё разом угомонилось, небо прояснилось, и чудилось, будто не было ни урагана, ни проливного дождя.
Над городом занимался светозарный солнечный день.
Я ждал звонка, потому что Рена не взяла покамест у меня билеты. Наконец уже к концу дня телефон подал голос. Она звонила из автомата.
– Ты бы не спустился вниз? – спросила она сладостным бархатным голоском.
– А ты не хочешь подняться в редакцию?
– Хочу, – сказала она, понизив голос. – Но я не одна. Так что лучше спустись ты.
И меня невесть отчего охватило волненье. Я понял, с ней Ирада и Эсмира. Пошагал немного по кабинету, рассчитывая успокоиться. Но волненье не проходило.
Я тотчас их увидел, они стояли на той стороне улицы, перед садиком у филармонии – в туфельках на шпильках и нарядно, по-праздничному одетые. Ирада была, можно сказать, одних с Реной лет, должно быть, года на два–три постарше, а Эсмира (я верно подметил) походила на Рену – ладная, стройненькая.
Меня сверлили три пары глаз, а я не знал, куда деть руки, как пересечь улицу под испытующими любопытными взглядами Эсмиры с Ирадой.
– Здравствуйте! – смущённо сказал я, наконец-то перейдя через улицу и приблизившись к ним. – Вот и билеты.
Взяв билеты левой рукой, Эсмира протянула мне правую, и я поневоле сжал в ладони её тоненькие холодные пальцы.
– Эсмира, – сказала она, глядя на меня тем именно взглядом, каким уже созревшие красивые девушки повергают в оторопь и юнцов, и мужчин в годах, заставляя трепетать их сердце, – соблазнительной перспективой первых, а вторых, увы и ах, одним только сожалением, что так неуследимо минула молодость. – Благодарю за билеты.
Ирада ответила на моё приветствие кивком головы, а Рена просто улыбнулась.
– До концерта есть ещё время, – сказал я. – Предлагаю зайти в кафе, здесь отменное мороженое.
– Можно, – с обворожительной улыбкой ответила за всех Эсмира. Улыбка очень красила хорошенькое её личико.
– Эсмира, – попыталась одёрнуть её Ирада, да куда там.
– Пойдёмте, что ж вы стоите, – сказала она, и под птичий щебет мы, точь-в-точь по лесу, двинулись по широкой аллее, обсаженной высоченными липами, к приютившемуся под стеной Ичери-шехера кафе на открытом воздухе, где тянул заунывную песню магнитофон. «Я долго скитался цветущей весной, и снилось мне, будто ты снова со мной», – пел Ялчин Рзазаде.
Эсмира остановилась и, затая дыхание, чистыми широко открытыми глазами с непередаваемым восторгом уставилась на ветку склонённой к аллее липы, по которой вприпрыжку бежала желтовато-бежевая белка. Прыгая с ветки на ветку, зверёк добрался до макушки липы, до самой её вершины, на прикоснувшейся к небу ветви показался на миг огненно-рыжий его хвост, дрогнул и запропал в листве.
– По крайней мере, двое в зале упадут в обморок, – повернувшись ко мне, с детской отрадой сказала Эсмира. – Они уверены, что мне не удалось достать билет. – Она смотрела на меня каким-то шутовским взглядом; улыбка ни на секунду не гасла в ее чёрных искрящихся глазах и на губах и захватывала всё лицо. Улыбка цвела даже на сахарно-белых, белее снега, блестящих её зубах.
– И места у нас рядом со сценой, в третьем ряду, – сказал я, довольный тем, что это доставит ей радость.
– Что-что? – и впрямь обрадовалась Эсмира. – В третьем?! А они-то знаете где? В самом последнем ряду. Аман аллах, они же лопнут от зависти.
– А знаете, чьи это билеты?
Эсмира сгорала от любопытства.
– Чьи? – чуть искоса глядя на меня горящими глазами, спросила Эсмира.
– Председателя правления Союза писателей Азербайджана Анара.
– Анара? – Эсмира встала как вкопанная, в её крупных роскошных глазах ярко заискрились огоньки. – Я читала его роман «Шестой этаж пятиэтажного дома». Чудная вещь. А смерть Тахмины меня потрясла… Никто не поверит. Никто. Знаете, кто из наших писателей самый лучший? Анар, Эльчин, Акрам Айлисли, братья Ибрагимбековы, Чингиз Гусейнов, вот кто. Читали повесть Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш»? Замечательная повесть. Главную героиню тоже зовут Реной, но она безнравственная плутовка, а моя сестрёнка полный её антипод. Надо же, билеты Анара… Ведь они увидят, где я сижу.
– Рена тоже читала эту повесть? – поинтересовался я просто так.
– Не знаю, – подчёркнуто небрежно бросила Эсмира с игриво-невинной улыбкой. – Сейчас она изучает армянскую литературу. – И, глядя на меня, засмеялась. – Что бишь она читала в последнее время? Дайте вспомню… У Александра Македонского было тридцать тысяч воинов, он всех знал в лицо и по имени, а я название простой книжки и то не в состоянии запомнить.
– Эсмира! – просительно произнесла Рена, на сей раз она, а не Ирада.
– Вспомнила, – сказала та, не обращая внимания на сестрину мольбу. – «Сорок дней Муса-Дага». Толстенная книга, мне и за сорок дней не одолеть. «Дети Арбата» тоже большая книга, но я за две недели прочла. Четыре дня плакала из-за Саши, её героя. Бедный! Будь я на месте Вари, любимой его девушки, поехала бы за ним в Сибирь, до самого Канска. Точно как в «Истории Манон Леско и кавалера де Грие» де Грие добровольно последовал в Америку за ссыльной Манон. Знаете, что говорила Сона?
– Кто такая Сона?
– Наша одноклассница, – безразлично бросила Эсмира. – Корчит из себя Наргис. Ну да, красивая, но не совершенная же красавица. Наргис, которую, между прочим, по-настоящему звали Фатима, про что Сона вряд ли знает, была знаменитой киноактрисой и слыла красавицей не только в Болливуде и миллиардной Индии, но и во всём мире. Когда она лежала больная в Нью-Йорке, таксисты не брали платы с тех, кто ехал её навестить, а просили купить на эти деньги белых роз. Аман аллах, с кем она себя равняет! Есть ученики, которые знают, что знают, другие знают, что не знают, а третьи не знают, что не знают. Сона как раз из этих – не знает, что не знает. Я, говорит, завт-ра не смо-гу тол-ком вы-у-чить у-ро-ки, кон-церт, на-вер-но-е, по-ме-ша-ет, – передразнила Эсмира. – Можно подумать, будто ты когда-то их учила толком. Для неё внятно высказать какую-либо мысль – мука мученическая. Списывает у того и другого, с подсказками кое-как отвечает, в общем, перебивается на «троечки». Про концерт нарочно громко сказала, чтоб я услышала. Думала, я с ума сойду. Фигушки!
Легконогая, как лань, Эсмира ускакала вперёд, парни вокруг оглядывались на неё, словно подсолнухи, что вертятся вслед за солнцем.
– Эсмира, – позвала её Ирада, – не убегай!
Мы устроились за круглым столиком. Официантка узнала меня, мы с ребятами частенько захаживали сюда выпить кофе или полакомиться мороженым. И приветливо поздоровалась. Мы принялись обсуждать заказ.
– Ты любишь клубничное мороженое или шоколадное? – спросил я Эсмиру.
– И клубничное, и шоколадное, – протараторила она. – То и другое обожаю.
– Эсмира, – Рена снова попробовала приструнить сестру. – Я что тебе сказала?
– Ты сказала: веди себя прилично, – призналась Эсмира. – А разве я плохо себя веду? – спросила она, повернувшись ко мне и глядя глазами, в которых играли смешинки.
– Вовсе нет, – сказал я. – Наоборот.
– Вот видишь, – торжествующе заявила Эсмира. – Жалоб нет. – И, снова повернувшись ко мне, добавила: – Я с этой Соной не разговариваю. И с Зауром тоже.
– А Заур-то кто?
Эсмира вновь искоса взглянула на меня, сдунула в сторону пухлыми розовыми губами прядь волос на лбу. В точности как Рена.
– Отличник, лучший в классе ученик, – не без гордости, но с напускным безразличием пояснила она. – Я с ним поссорилась.
– Из-за чего? – с улыбкой подзавёл я её.
Рена с Ирадой тоже улыбались, с нежностью поглядывая на Эсмиру.
– Из-за того, что дал Соне списать контрольную по математике. Вот и поругались.
– А что в этом такого? – спросил я.
– Ничего. Но раз я этого не хотела, не должен был давать, – сказала она, глядя на меня лучезарными своими глазами. Чёрные глаза с яркими белками – на прелестном смуглом личике.
– Почему?
Эсмира посмотрела на меня и, немного подумав, ответила:
– Потому что эта Сона сказала девчонкам, будто ходила с Зауром в кино и будто бы Заур её поцеловал. Враньё. Заур поклялся мне, что не было этого. Она наврала.
– Эсмира, можешь ты помолчать? – рассердилась Рена.
– Могу, – сказала Эсмира и промолчала целых полсекунды. Но не больше.
– С нашим телефоном что-то случилось, – объявила она. – Вчера говорила с подружкой, и мы почти не понимали друг друга.
– А вы не пробовали говорить по очереди? – глядя на сестру смеющимися глазами, спросила Рена.
Эсмира посмотрела на неё, но мысли её были где-то далеко.
– Заур говорит, что я очень похожа на Софи Марсо, – сказала она. – А по-моему, я больше похожу на Монику Беллуччи. Видели?
– Кого? Заура?
– Да не-ет, – колокольчиком залилась Эсмира и помотала головой. – Монику Беллуччи. Ей двадцать пять, и в эти дни в Париже и Нью-Йорке только о ней и говорят – она самая знаменитая топ-модель.
– Её я видел. Кажется, недавно её фото было в «Плейбое».
– Верно, недавно «Плейбой» вышел с её фото на обложке. Правда, я на неё похожа?
Я посмотрел на Эсмиру; одухотворённая, жизнерадостная, освещённая не только солнечными лучами, которые проникали в зазоры между кронами уходящих в поднебесье деревьев, и не только бьюшим прямиком изнутри необычайным светом, с мелодичным голоском, ярко-алыми невинными губками, палящим огнём слегка раскосых глаз и своей чуть экзотической красотой, она и вправду ничем не уступала черноокой манекенщице Монике Беллуччи, и, верно, между ними ощущалось какое-то сходство.
– Похожа, – подтвердил я. – «Плейбой» достоин опубликовать на обложке и твой портрет.
– Вот и я так думаю. – Эсмира возбуждённо посмотрела на Рену и Ираду, довольно улыбнулась. – А сестрёнка похожа на Мерлин Монро? – внезапно спросила она, глядя на меня всё теми же смеющимися глазами.
– Когда Мерлин Монро было девятнадцать, она походила на твою сестру, но твоя сестра обворожительнее девятнадцатилетней Мерлин Монро.
Рена улыбнулась одними глазами, взглянула на меня глубоко любящим взглядом и лёгким движением огненно-красных губ послала мне тайком от Эсмиры с Ирадой поцелуй.
– Думаю, – продолжила Эсмира, – она больше схожа с Брижит Бардо.
– Эсмира! – поневоле взмолилась Рена.
Эсмира сморщила личико и сделала жест рукой – дескать, не мешайте, я тут важные вопросы решаю.
– Их карточки кладу одну с другой, и различить их невозможно – волосы, брови, взгляд, осанка, руки, тем более когда на ней одежда без рукавов, цвет глаз и улыбка, в особенности улыбка – ну, буквально всё один к одному. У нас в классе тоже все говорят, мол, ужасно похожи. Ну а губы, как ни посмотрю, – те же эротические губы.
– Эсмира, да замолчи же ты! – покраснела всерьёз осерчавшая Рена. – И зачем только мы взяли её с собой, а, Ирада?
– И не говори, – согласилась Ирада. Но при этом улыбнулась.
– В соседнем с нами доме на пятом этаже парень живёт, учится в физкультурном институте, – и бровью не поведя на их реплики, задумчиво сказала Эсмира. – С утра до вечера глаз не сводит с нашего балкона. Наденет кимоно и прыгает, упражняется. Вы спортом занимаетесь? – неожиданно повернувшись ко мне, спросила она.
– Зачем?
– Как это зачем? Чтобы долго жить.
– Заяц день-деньской прыгает, бегает туда-сюда – спортсмен хоть куда, вдобавок травоед, вегетарианец, а больше восьми, от силы десяти лет не живёт. Зато черепаха физическими упражнениями не занимается, ленивая, медлительная, никуда не торопится, пошлют её по воду, через час злятся, мол, ушла и пропала, и вдруг из окна слышат: много будете говорить – вообще не пойду. Так она-то четыреста пятьдесят лет и живёт.
Эсмира засмеялась и, глядя смешливыми глазами на Рену, сказала:
– Этот парень из физкультурного с ума по моей сестричке сходит.
Сердце у меня тревожно забилось.
– Не слушайте её, Лео, – бросив на меня короткий взгляд крупных карих глаз, сказала Ирада. – Ты, Рена, права, напрасно мы взяли её с собой.
Придав лицу выражение человека, которому всё наскучило, Эсмира снова лениво махнула рукой, точь-в-точь отгоняла от себя муху.
– А сестричка между тем по вам с ума сходит, – сказала она с иронической усмешкой. – Читали вы стихотворение Капутикян? «Объятый именем моим, идёшь по улице с другой. Я с кем-то чуждым и другим иду по улице другой» , – продекламировала она и облизала мельхиоровую ложечку с мороженым, переходя от клубничного к шоколадному.
Ирада засмеялась и покачала головой – ребёнок, он и есть ребёнок.
– Знаете, что при всём классе заявил Заур? Есть, говорит, одна, коли велит, я вылезу из окна и по карнизу третьего этажа пройду с закрытыми глазами всё здание из конца в конец. Ну, посыпались вопросы – кто да кто эта одна? Он и говорит: Эсмира. Представляете? Сона чуть не умерла. Ещё бы! Знаете, что она сказала, эта Сона, прямо перед тем, за несколько минут? Если, говорит, он первый о ком ты думаешь, едва проснёшься, единственный, о ком думаешь в течение дня, и последний о ком думешь, засыпая, – значит, это любовь. А после слов Заура у неё краска с лица сошла. Стала белая, как стенка. – Эсмира улыбнулась и, прищурясь, ясным-преясным взглядом глянула на меня. – Как по-вашему, – чуть погодя сказала она, – простить мне Заура?
– Разумеется, – быстро и уверенно сказал я.
– Нет, не прощу, – со значением и весело посмотрев на меня, решительно сказала Эсмира, ненадолго задумалась и добавила: – Пусть попросит прощения.
Её искренняя благожелательность и наивная чистота не могли не тронуть.
– Попросит, куда ж ему деваться? – улыбнулся я.
– Я тоже так думаю, – улыбнулась в ответ Эсмира, довольная донельзя. – Я полагаю, что, прощая других, ты прощаешь и сам себя. А унижая других, унижаешь себя, уважая и помогая другим, уважаешь и помогаешь себе, защищая других, и себя защищаешь. И таким вот образом волей-неволей вырастаешь в своих глазах и совсем иначе чувствуешь себя. Правда ведь? – спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила: – Мне здесь нравится. Мы словно в лесу: птичий гомон, белочка, музыка. Рок-музыка мне очень по душе, а ещё я очень люблю этническую, народную музыку. Знаете, какая народная песня мне больше всего нравится? – И она тихонько пропела по-азербайджански: – «Кючалара су сапмышам, яр гяланда тоз олмас՛н, яр гяланда тоз олмас՛няя.» . Здорово, да? Хоть и про любовь, однако такая в ней глубокая грусть и печаль. Прямо сердце разрывается, так и видишь, как она без конца смотрит на дорогу, ждёт и ждёт, а любимого всё нет и надежды, что придёт, её тоже нету. Такого вкусного мороженого я нигде не ела, – резко сменила она тему.
– Приятно слышать, – откликнулся я.
Эсмира смотрела на меня затуманенными глазами, хотела что-то сказать, однако, похоже, передумала и умолкла.
– Чувствуешь, какой аромат? – она не выдержала, подобралась и вытянула шею к Рене.
– Ах, ах, ах, – весело покачала головой Рена.
– Ох, ох, ох, – манерно, с чрезмерной игривостью отозвалась Эсмира. – «Шанель номер пять». Мамины духи, я чуточку тронула. Обожаю этот аромат. – Она слегка вздохнула, наклонилась ко мне и подставила шею чуть ли не к лицу, обволакивая меня пьянящим запахом. – Приятный, верно?
Воздух благоухал упоительным девичьим ароматом.
– Бесподобный, – сказал я.
– Знаете что? – сказала Эсмира, поглощая мороженое. – Странная штука, когда ты счастлива, хочется плакать, а когда грустишь, то смеяться вовсе неохота… Поэтому, мне кажется, лучше уж быть счастливой. И никому не завидовать. Знаете, что тяжелее всего завистнику? То, что ему-то никто не завидует. У нас в классе все девочки мне завидуют. – Она сделала крохотную паузу и сказала: – Мне вообще кажется, что мальчишки, они куда более надёжные и верные товарищи. В любом случае до меня не доходит, отчего мне завидуют. Как я ни оденься, хорошо ли, плохо ли, – завидуют. Притворюсь грустной, когда весело, или весёлой, когда грустно, – завидуют. Десятиклассники смотрят на меня, или пишут записки, или, скажем, провожают и несут портфель – опять же завидуют. Если вдруг интереса ради обрежу волосы, не сомневаюсь, они тоже постригутся. Не знаю, что и сказать. – Якобы до крайности озабоченная, она пожала плечами. – А знаете, что мне пришло в голову, – весело заявила она, – кому не завидуют, тот, стало быть, ничего собой не представляет. И пускай себе завидуют! Лучше, чтоб они мне завидовали, чем я им, так ведь?.. – Она снова сделала паузу. – Я ни за что не пойду в медицинский. «Сроки карантина заразных больных и общавшихся с ними лиц», «Болезни кровеносной системы», «Дневник профилактических прививок»… Меня тошнит, когда смотрю на Ренины учебники. Кончу школу – поступлю в институт косметологии и красоты. Я узнавала, есть в Ленинграде такой институт. В него-то я и поступлю, – заключила Эсмира и неожиданно добавила: – Я стихи пишу.
– Не стихи, а вирши, – подколола Рена.
– Какая разница? – повернув к сестре голову и сморщив хорошенький носик, отозвалась Эсмира.
– Не чувствуешь разницы, вот и строчишь вирши, – улыбнулась Рена.
– Думаете, мне только в школе завидуют? Видите?
На этот раз рассмеялись все, и Эсмира, конечно же, заодно с нами.
Прогулочным шагом мы дошли по той же аллее до остановки, и Эсмира снова была впереди – беззаботная и легконогая, чуть угловато покачиваясь влево и вправо.
Я остановил первое попавшееся такси.
– Поедем лучше троллейбусом, – попыталась возразить Ирада. – Восьмой номер идёт прямо к дворцу Ленина.
– Подобает ли Эсмире ехать на концерт троллейбусом?
– Полагаю, что нет, – подтвердила Эсмира.
– А что, в конце-то концов, скажет противоположная сторона? – улыбнулся я.
– Так далеко они не заглядывают, – засмеялась Эсмира и села на переднее сиденье, рядом с водителем, села весьма торжественно, а прежде чем сесть опять протянула руку и, глядя на меня прищуренными глазками, сказала: – Покидаю вас с приятными впечатлениями.
– Желаю тебе никому никогда не завидовать, – с улыбкой ответил я. – Потому что зависть – враг счастливых людей. Вдобавок я уверен – у тебя никогда не будет повода кому-либо завидовать.
Поздно вечером позвонила Рена, поделилась впечатлениями от концерта, разумеется, не без досады посетовала на выходки Эсмиры, а под конец почти что шёпотом добавила:
– Ты нашим очень понравился. Эсмира без конца говорит о тебе, а Ирада сказала, что в тебе есть особенное мужское обаяние. У сестрёнки моей болезнь – сравнивать. Знаешь, с кем она тебя сравнила?
– Знаю.
– С кем? – сладко прощебетала Рена.
– С Квазимодо.
Она снова рассмеялась:
– Я не говорила тебе, что ты гораздо красивее Квазимодо?
– Говорила. Рад, что напомнила. Ну, в таком случае с Челентано.
– Не-ет, – снова рассмеялась Рена. – Ты красивей, чем Челентано. Нигде, ни в институте, ни в каком-либо другом месте нет никого, с кем я могла бы тебя сравнить. Ты для меня идеал мужчины, неужели не понимаешь?
– Ладно-ладно, скажи, с кем сравнила меня Эсмира.
– С Джоном Ленноном.
Я улыбнулся: она – Брижит Бардо, я – Джон Леннон. Приятное сравнение. Я сказал:
– Джон Леннон шестью годами моложе Бардо.
– На столько же ты старше меня, – засмеялась Рена. – У неё было приподнятое настроение, она то и дело восторгалась и смеялась. – Но разве это помеха, чтоб я тебя безумно любила?
– Пожалуйста, передай вашим мою признательность.
– Не передам, – опять рассмеялась Рена и пожелала мне доброй ночи, не забыв, разумеется, добавить на своём армянском «Цавет танем».
*******
В это кафе на открытом воздухе мы пошли и на следующий день. На сей раз с Ариной и Лоранной. Арина закончила перепечатку воспоминаний прежнего главного редактора, и это необходимо было отметить.
– Освободилась от такой обузы, это надо отметить, – сказала Арина. – Прямо не верится, что больше не увижу мерзкой его рожи. В последний день, вместо того чтобы поблагодарить, что задаром перепечатала эту ахинею, он сказал: «Ты понаделала ошибок. Одну из наших машинисток на семь лет сослали в Сибирь, другую – на пять. И за что? Каждую за одну-единственную ошибку».
– Не сказал, какую конкретно? – поинтересовалась Лоранна.
– Сказал. В тексте о Сталине вместо «полководец» получилось «волководец». Так ошиблась машинистка редакции русских передач, а армянская машинистка в предложении «Герой Социалистического труда Басти Багирова вместо шестидесяти килограммов, положенных по плану, собрала триста пятьдесят килограммов» вместо собрала напечатала «сосрала». И получила пять лет. Представляете, за какую-то опечатку! На мой вопрос, кто донёс органам об этих опечатках, без зазрения совести ответил: «Я». Представляете? Говорит, оба случая пришлись на моё дежурство, и я не имел права не сообщить, ведь ошибки были сделаны умышленно. Хотите знать, что он ещё сказанул? Обалдеете.
– От него всего можно ждать, – кивнула Лоранна. – Так что же?
– Я, говорит, обратился в горсовет, чтобы с армянской церкви сняли колокол, мне, говорит, мешает работать.
– И с таким человеком мы здороваемся, – сказала Лоранна с огорчённым видом. – Предлагаем присесть, уважаем его старость.
– О старости он тоже говорил, – сказала Арина. – Нет, говорит, ничего страшнее, чем знать, что ты уже стар. Все, говорит, советуют мне – женись, да как же, говорит, мне жениться, разве сейчас есть обоюдная любовь? – от души расхохоталась Арина. – Одной ногой в могиле, а туда же, подавай ему взаимную любовь! Знаете, что ещё ляпнул? – опять от всей души засмеялась Арина. – Атанес Сенал, говорит, неважный поэт, однако же погляди, где похоронен – у самого входа на армянское кладбище. Ты только погляди, говорит, как повезло.
– Атанес Сенал на пятнадцать лет моложе его, добровольцем ушёл на войну и как поэт в сто раз лучше. Какая же он дрянь, если завидует покойнику. – Лоранна повернулась к Арине. – Кому повезло, так это тебе, Арина, избавилась. Приглашаю выйти поесть мороженого. В последнем номере «Гракан Адрбеджана» напечатаны мои стихи. Редактор говорит, что в нынешнем году тираж журнала – двенадцать тысяч. Однако, говорит, не сомневаюсь, что после этого цикла стихов тираж в будущем году поднимется до пятнадцати тысяч. – Она засмеялась и добавила: – Словом, я получила гонорар и плачу. За твоё, Арина, избавление от бед.
– Нет-нет, плачу я, – возразила Арина.
– Не спорьте, заплачу я, – сказал я. – Что такое несколько тугриков, если речь об Арине! Вставайте.
– Нет, я, – снова взялась за своё Арина.
Внезапно дверь открылась, и к нам вошёл Тельман Карабахлы-Чахальян, он же Сальвадор Дали – при жёлтом галстуке, с невесть у кого взятой недокуренной сигаретой между пальцами, с всклокоченными волосами.
Это был он, вечно торчащий в коридоре – попросить у кого-нибудь сигаретку, вечно готовый, растягивая губы, фальшиво улыбнуться, и согнуть спину в поклоне, и покачать укоризненно головой, перемывая косточки вошедшему: «Ох, знали бы вы, какой это скверный человек», и угодливо кланяться тому же «скверному человеку»: «Неджасян, азиз’м»* и наконец, когда тот удалится: «Ух, ядовитая гюрза».
– Что тут за свара? – спросил он, озирая кабинет глубоко посаженными бегающими глазами и до того раболебно улыбаясь, что нельзя было взять в толк, он и впрямь улыбается или вот-вот расплачется.
– Никакой свары, Тельман Карапетович, мы просто спорим, – сказала Лоранна и вдруг, посветлев лицом из-за пришедшей в голову мысли, добавила: – Получили статью, о ней и спорим. И ты как бывший судья и прокурор обязан изложить авторитетное своё мнение – стоит ли передавать её по радио?
– Я готов, – приняв услужливую позу и придав лицу задумчивое выражение, сказал Тельман.
Лоранна взяла со стола какие-то машинописные листки, подержала их секунду-другую перед глазами.
– Собственно говоря, это не статья как таковая, а глава из докторской диссертации, посвящённая дружбе народов. Автор – известная фигура, доцент.
– Ну, это неважно, читай.
– Читаю, внимательно послушай начало.
Тельман – само внимание – слушал.
– Во время войны Варданидов взятие Ереванской крепости было
осуществлено ценой крови самоотверженных бойцов русской армии, армянских добровольческих отрядов и грузинской милиции, – медленно,
———————————————-
*Неджасян, азиз’м (азерб.)- Как дела, родной мой?
отчётливо произнося каждое слово, прочла Лоранна и, подняв глаза, посмотрела на Тельмана: – Стоит продолжать?
– Что за вопрос? – не колеблясь ответил Тельман. – Не что-нибудь, а дружба народов, как же не стоит?!
– По-моему, – молвила Лоранна, и я поразился, до чего же спокойно она прикидывается, будто вправду зачитывает некий материал, – там, где говорится о грузинской милиции, следовало бы сказать и о доблести азербайджанской милиции.
– Правильно, – кивнул Тельман. – Молодес, голова хорошо работает, умница!
– Послушай дальше. «В то время, то есть в четыреста пятьдесят первом году, когда русские, армянские добровольцы, бойцы грузинской… здесь добавим: и азербайджанской милиции героически сражались у стен крепости, Армения ещё пребывало под игом Персии и Турции».
– Здесь неправильно, – задумчиво опустив уставленные в потолок глаза, с видом мудреца произнёс Тельман.
«Слава Богу, наконец-то до него дошло», – подумал я.
– Что именно? – нерешительно спросила Лоранна – страстный рот приоткрыт, в голубовато-зелёных глазах смешинки.
– Должно быть: под тяжким игом, – сказал Тельман.
– Молодчина, – похвалила его Лоранна. – Это я исправлю. Прочее ничего, можно дать в эфир? Вся статья написана на том же уровне.
– Безусловно, – высказал авторитетное своё мнение Тельман. – Три народа сражаются вместе, плечом к плечу. Толковая статья, надо выписать хороший гонорар. – И, положив руку на голый череп, он добавил: – Устал я, очень устал, ночью не спал. Пишу книжку для детишек, двести шестьдесят шесть страниц написал, осталось сто двенадцать.
Лоранна с любопытством взглянула на него.
– Что за книжка? – всё-таки спросила она.
– Про войну, про бои, – мечтательно прикрыв глаза, едва пробормотал он. – Два войска ожесточённо палят друг по другу… кизиловыми косточками.
Лоранно рассмеялась, точно прожурчал ручеёк:
– Извини, Тельман, спрошу тебя кое о чём.
– Ты не смотри на меня так красивыми своими глазищами, – возвращаясь с кровавого поля брани в будничную жизнь, сказал Тельман. – Боюсь я красивых глаз. Обжегшись на молоке, и на воду дуешь. Ну, что там у тебя?
– Скажи начистоту, Тельман, ты в университет поступил после школы или прямиком из детсада?
– Э-э, – рассердился Тельман. – Ты что, совсем глупая, без царя в голове? Во время войны какой такой детский сад? В голодные годы откуда взяться детсаду? – Сказал и направился к дверям, у порога обернулся. – Живот и голова у меня нехорошие, болят, утром рано пошёл я к дохтуру. Хороший дохтур, мы с ним старые товарищи. Разломил он какую-то таблетку напополам, дал мне, это, говорит, от головы, это – от живота, только, говорит, смотри не перепутай. Выпил я, проку никакого, сызнова болит. – Высказался, покачал огорчённо головой и вышел, позабыв, зачем приходил.
… Выйдя в коридор, мы двинулись к лифту.
– Знаете, за что этого тронутого манкурта сняли с прокурорства? – со смехом спросила Лоранна. – Напившись в ресторане – он и без алкоголя шут шутом, вообразите, каков он пьяный, – он, со шляпой на голове, потребовал у гардеробщика шляпу, угрожая, что вызовет наряд милиции и всех работников арестует. Первый секретарь райкома вызвал его к себе и говорит: чтоб духу твоего завтра в районе не было.
Не дожидаясь лифта, мы стали спускаться по лестнице. В полутёмном коридоре третьего этажа за колонной беседовали двое. Лоранна почему-то замедлила шаг, внимательно глядя на эту пару. Я тоже поневоле оглянулся; одним оказался наш сотрудник Геворг Атаджанян, а другой стоял к нам спиной. Геворг – это было ясно видно – хотел притаиться за колонной, но понял, по всей вероятности, что мы его заметили и, чтобы скрыть смущение, оживлённо заговорил с нами:
– Куда это вы втроём? Прихватили б и меня за компанию.
– Там, куда мы идём, для тебя нет места. – Лоранна без видимой причины выбрала ледяной тон.
– Почему? – с деланным удивлением повернул голову Атаджанян.
– А ты сам подумай – почему.
– Обижаешь, Лорик. Умоляю, не разбивай сердце, в котором царишь ты, – словно бы впрямь обиделся, но с той же деланной улыбкой продолжил он. – Ужели тебе неведомо, что по мне всё на свете цветёт и благоухает благодаря тебе, без тебя ночь бессонна, день объят грустью? Тебе говорит это Геворг, поверь, без чудесного твоего имени даже солнце утратит очарованье.
Лоранна молча глядела на него с загадочной полу-улыбкой.
– Не пой мне осанну, – наконец сказала она, – ступай, пой Норе Багдасарян, она тебя, может, и поймёт, а я замужняя женщина…
– Ах, ты замужем, ах, ты возлюбленная другого, – в том же духе продолжил Атаджанян, – зато я одинок и неприкаян, ах, пропавшая моя мечта, ах, угасший светоч надежды…
Неожиданно лифт остановился на третьем этаже, из него вышла женщина, и мы быстренько вошли.
– Терпеть не могу похотливых и продажных мерзавцев. Знаете, с кем он стоял?
– С кем? – заинтересовалась Арина.
– С любовником Тельмановой жены Сафаром Алиевым.
– Против кого же он копал? – откликнулась огорчённая Арина.
Мы вышли на улицу, пересекли широкий проспект, очутились на аллее и, беседуя, достигли кафе. И согласились на том, что холодное мороженое – целебное снадобье после обжигающих воспоминаний нашего бывшего, после интригана Геворга Атаджаняна и шута Тельмана Карабахлы-Чахальяна.
Так оно и было.
*******
Дни не то что проходили, нет, они летели, как моё опалённое любовью сердце неудержимо летело навстречу ненаглядной Рене.
Весь мир – люди, которые купались в море, весело окликая друг друга, смеялись, с тучей брызг окунаясь в прохладную воду, журавлиный клин, что с тоскливыми кликами тянулся с юга на север в ясном высоком небе, одинокий безмолвный тополь на макушке скалы, который колыхался и слегка гнулся со своей непрестанно трепещущей кроной под ласковым ветерком, – всё и вся обретало в присутствии Рены новый смысл. До неё всё это было для меня непостижимо, ну а теперь… я до того счастлив, что и помыслить не в силах, что этого счастья могло б и не быть.
Билгия – единственное на всём Апшероне место с каменистым пляжем, и мы пришли сюда искупаться и полюбоваться с прибрежных утёсов за городом чистейшим, бескрайним и безмятежным морем, на лазурной лучистой поверхности которого тут и там дробились, отдавая белизной, разом возникающие и разом исчезающие прозрачные, омытые солнцем нежно-пенные валы. Серебристые эти валы, мало-помалу измельчаясь, лизали с подобным поцелую причмокиванием прибрежные каменья.
Мы купались у скал вдали от людских глаз – мне не хотелось, чтобы кто-то чужой смотрел на Рену. В пёстром купальнике и шикарных солнечных очках «Макнамара», усеянная блёстками ещё не просохших брызг на тугом теле, с красивыми оспинками прививок на шоколадных от загара красивых руках – она была обворожительна. Длинные стройные ноги, нежные плечи, прелестная крепкая грудь из-под купальника, неправдоподобно тонкая талия, изящный ротик с очерченными багряными губами – казалось, весь пляж обернулся к нам, едва мы там очутились. Её тень и та была красива.
– Пойдём к скалам, там никого нет, – сказал я. Несравненная моя Рена мгновенно поняла, что творится у меня на душе, и с очаровательной кротостью и мягкостью на лице улыбнулась:
– Пойдём. – И я был страшно признателен ей. Эти взгляды украдкой я ловил и в шашлычной, что сразу вывело меня из себя. «Если узнаю, – сказал я тихонько каким-то хриплым изменившимся голосом, задыхаясь от всепоглощающей путаницы страсти и ревности, мало-помалу половодьем затопившей душу, – если вдруг узнаю, что кто-то к тебе прикоснулся, ножом вырежу это место». Рена прижала к себе мою руку и шепнула:
– Раз я с тобой, значит, мне никто больше не нужен. Счастлива не та, у кого много поклонников, а та, у кого есть тот, кроме которого ей никого не надо. Не ревнуй меня, Лео, я никогда и ни разу не причиню тебе боль.
Так сказала мне тогда Рена.
Мы беседовали о том и о сём – о важном и неважном, поминутно перескакивая с одного на другое и, беззаботно смеясь, обрызгивали друг друга водой, бегали рука в руке по горячему песку, бросались в воду, наперегонки заплывали довольно далеко, резко поворачивали вспять и снова плыли наперегонки – кто первый достигнет берега.
Потом мы обсуждали учение Зигмунда Фрейда о психоанализе. Я согласился с мнением Фрейда, что в нашем бессознательном по-прежнему живёт первобытный человек и каждый из нас от рождения наделён агрессивными инстинктами, склонностью к разрушению.
Рена возразила мне, ей казалось, что тем самым я оправдываю насилие, агрессию, животные инстинкты разрушать и убивать. Она привела в пример Раскольникова, мол, где же в его поступках первобытное и бессознательное? Убив человека, двух старух, он говорит, что убил не их, а себя самого, и после этого убийства не в состоянии жить как полноценный человек. Но и мы, прочитав это, тоже не в силах уже жить по-старому.
Мы без конца говорили и говорили, голос Рены звучал у меня в ушах восхитительной мелодией. Мы перешли к новой теме – к музыке. По словам Рены она днями напролёт готова слушать Равеля и Баха; мы посожалели – десятая симфония Бетховена по мотивам «Фауста» стала бы неповторимым шедевром, успей он её завершить. Далее речь зашла о живописи и ваянии; я спросил, известно ли Рене, что Гейне часами сидел в Лувре перед Венерой Милосской, оплакивая поруганное человеческое совершенство.
Рена сказала, что ещё не бывала в Эрмитаже и очень хочет однажды поехать на каникулы в Ленинград, походить по Эрмитажу, Русскому музею и, конечно, посетить дом на набережной Мойки, где провёл свои последние часы Пушкин.
«Вместе поедем», – мысленно сказал я ей, и сердце встрепенулось от этой мысли.
– Ты читал письма Пушкина матери Натальи Гончаровой?
Я был знаком с этими письмами, но не знал, какое именно письмо Рена имеет в виду.
– Пушкин пишет, что готов умереть ради Натальи. По-моему, самая возвышенная любовь – у лебедей. Если кто-то из них погибает, другой не в силах этого перенести и камнем падает в море. Ты пожертвовал бы жизнью ради своей любимой? – внезапно спросила Рена, устремив на меня голубые глаза.
– Рена, – сказал я, лаская и целуя её позолоченные солнцем чудные плечи. – Я отдам за тебя жизнь, не колеблясь ни секунды.
– Я люблю тебя. – Её пылающие нежные губы лёгкими касаньями прошлись по моему лицу, застыв у иссохших губ. – Я люблю тебя, и в этом вся моя жизнь, – едва слышно прошептала она.
Я целовал губы, произнёсшие эти слова, и душу мою потрясало счастье.
Высоко в небе пролетала уже другая журавлиная стая – выстроившись таким же клином и с теми же печальными кликами – курлы, курлы…
И вдруг нежданно-негаданно Рена прочла мне строки Терьяна:
Вашим душам, ленивым, чужим, никогда не понять:
Наша родина – храм, и священна здесь каждая пядь.
Удивлённый и восхищённый, я не спускал с Рены глаз. Мне вспомнились игривая улыбка Эсмиры и её фраза: «Она сейчас изучает армянскую литературу», и я улыбнулся, полный нежности к ней и благодарности.
– У армянского народа – тысячелетняя история культуры, – сказала Рена. – Говоря по правде, я этого не знала.
– Да, у нас тысячелетняя культура, – подтвердил я, – и мы были первым цивилизованным народом, принявшим христианство. Отсюда и все наши несчастья.
– Но почему, почему? – сказала Рена, внезапно зардевшись, огорчённым каким-то голосом и с обезоруживающей искренностью. «По всей вероятности, у них дома много про это говорят, – с болью подумал я. – Просто она не хочет рассказывать» .
Мы помолчали, и Рена сказала, пряча грусть:
– Не дай Бог, Лео, с тобой что-то стрясётся – мне и минуты тогда не прожить. – И после паузы добавила: – Теперь, когда я обрела тебя, у меня есть всё, потеряв тебя, я всё потеряю.
Я обнял её, прижал к себе жаркое её тело и не нашёлся с ответом. А Рена сказала:
– Мне бы хотелось оказаться с тобой в таком краю, где было бы море, но были б и леса, дремучие леса, и чтобы море было неподалёку и мы каждое мгновенье слышали его рокот. – И добавила с внезапным озорством: – Я уже знаю по-армянски: Ес си-ру-мем кэз… Ес шат си-рум ем кэз… Ес мер-ну-мем кэз hа-мар…*
————————————————
* Ес си-ру-мем кэз… Ес шат си-рум ем кэз… Ес мер-ну-мем кэз hа-мар…( арм.) — Я люблю тебя…Я очень люблю тебя…Я умираю по тебе…
Я засмеялся.
– Не смейся! – Она забарабанила кулачками мне в грудь, словно стучала в обитую кожей дверь, а на раскрасневшихся щеках играла улыбка. – Я что,
неправильно произношу, ну скажи, неправильно? – Потом, словно бы разобидевшись, с повлажневшими глазами, в промежутках златозвучного своего смеха: – Я сделаю, сделаю это, вот увидишь, уйду и не вернусь, если ты так этого захочешь…
Боже мой, она то и дело даёт повод любить себя, не имея на малейшего представления об этом!
Я крепче прижал её, и голос мой дрогнул:
– Ты сама не знаешь, какая ты прелесть.
*******
Следующая наша с Реной встреча также состоялась на морском берегу, в небольшом курортном селении Набран, в двухстах двадцати километрах севернее Баку, почти на самой границе Азербайджана с Дагестаном, по соседству с лесами.
Эти леса простираются здесь от подножий далёких Кавказских гор и вплоть до Каспийского моря. Густые девственные леса с исполинскими, до самого неба деревьями, лугами, журчащими речушками и бессчётными, бесчисленными родниками, были они столь обширны, без конца и края, что люди со стороны не отваживались углубляться в тёмную их чащу, побаиваясь заблудиться там и пропасть. Десятки пионерских лагерей располагались в Набране и за Набраном, по всему побережью, в сменявших одна другую лезгинских селеньицах – Первой Яламе, Второй Яламе, Третьей Яламе, в полудюжине селений под общим названием, но с различным порядковым номером.
Летом прошлого года, готовя радиопередачу, мы посетили один из этих лагерей. Он представлял собой ряд палаток на возвышенном месте в прохладном лесу, в ста шагах от моря. Повсюду слышались пронзительные детские голоса, крики, смех и гремевшие по лесу песни. Мы познакомились там с поварихой Араксией. Её семья была единственной в Набране армянской семьёй. Перебрались они сюда из Сумгаита из-за больной дочки. И Араксия, и её муж Саргис, щуплый человек с совершенно чёрными, несмотря на возраст, волосами, строитель, штукатур по профессии, знали моего отца. Тоже карабахские, в пятидесятые годы они приехали в Сумгаит по набору. В Набране у них был дом, в гостеприимном этом доме мы и жили в те дни. Мы
подружились, и на прощанье Араксия сказала: «Приезжайте, когда захотите, считайте, что едете к себе домой».
Вот о ком я вспомнил, когда Рена сказала, что хотела бы вновь очутиться там, где есть море, а помимо того – лес, дремучий лес, и чтоб он был невдалеке от моря. Но я молчал, хотелось преподнести Рене сюрприз. Промолчал я также, что покупаю машину, деньги уже внесены; рассчитывал поехать в Набран с ней на машине, если, конечно, Рене позволят домашние. Со своим близким другом Робертом, которого знал ещё в деревенском своём детстве (его сестра Мария, необычайно доброе, как мать, обходительное и мягкое божье создание, была моей учительницей в деревенской школе, и летом Роберт приезжал из Баку в деревню), мы отправились на узловую железнодорожную станцию в бакинском пригороде Баладжары – получать машину. Но цвета, который я облюбовал, не было, все «Волги» были чёрные, а мне чёрной не хотелось; мы условились обождать, вскоре должна была поступить новая партия. Я беспокоился, потому что лето кончалось, ещё немного – в институте начнутся занятия, тогда Рена не сможет поехать со мной в Набран.
– Чего ты тревожишься, братан? – с трогательным воодушевлением воскликнул Роберт. – Я на своём звере-«жигуле» домчу вас дотуда за два, от силы за два с половиной часа.
– Ну а я обещаю тебе шашлык четырёх видов, – обрадовался я, – из свинины, ягнятины, севрюжины и осетрины.
– Меня больше занимает выпивка.
– Ты какую предпочитаешь? Куплю тебе любую.
Деловитый, подвижный, как ртуть, Роберт оказался в замешательстве.
– Значит, едем. Итак, – он придал озабоченное выражение лицу, – мы народ скромный, ограничимся малым – шашлык из ягнёнка и севрюги. Осетрина чересчур жирная, а свиной шашлык летом – не стоит. Короче говоря, братец, жду твоего звонка.
Рене удалось уговорить свою двоюродную сестру Дилару (та жила в Бинагадах, одном из отдалённых предместий города и, к счастью, без телефона, так что проверить было нельзя) позвонить с работы Рениной матери и попросить, чтобы Рена на день осталась у неё. Мать хоть и с неудовольствием, но согласилась, поставив условие – чтобы Рена была дома не позже восьми вечера в воскресенье.
*******
Роберт сдержал слово – мы доехали до Набрана за два с половиной часа.
Скрестив руки на животе, худая, с замотанными на затылке волосами Араксия стояла на улице в тени растущего у них во дворе раскидистого орехового дерева, словно ждала нас. Но притормозившая рядом с ней машина Роберта застигла её врасплох. Секунду-другую она не могла скрыть удивления и растерянности, но тут же овладела собой, и её суховатое лицо выразило любезность и гостеприимство.
– Добро пожаловать! – расплылась она в доброй улыбке. – Будьте как дома.
Рена чрезвычайно ей понравилась.
– До чего славная девушка! Ни дать ни взять роза прямо с куста, – сказала она, обнажая в улыбке золотые зубы. – В потёмках осветит всё кругом. – И, глядя на Рену, добавила на своём русском: – Очень красивый дэвушка.
В ответ Рена светозарно ей улыбнулась.
– Как тут у вас с рыбой? – выйдя из машины и осматривая её справа-слева, спросил Роберт. Он попал в свою стихию.
– Рыбный край, вот и весь сказ– с той же златозубой улыбкой ответила Араксия. – Чего тебе угодно – осетра, севрюги, белуги?
– Мы с Лео договорились о севрюге и чёрном толстеньком ягнёнке.
– Рыба будет утром рано, съездим с тобой на машине в Третью Яламу, привезём. Знала бы заранее, купила бы. А насчёт ягнёнка… вечерком придёт муж, зарежем.
Роберт откинул голову и зашёлся в смехе.
– Только ради этих слов стоило сюда приехать, – произнёс он, всё ещё смеясь. – Мужа-то твоего для чего резать, чем он провинился?
– Да не мужа, – рассмеялась в свой черёд Араксия. – Хоть и стоило бы зарезать. Овцы на выгоне, надо пригнать.
За домом, по ту сторону сада, шумел лес.
С резным, как дубовый лист, торчащим гребнем, поглядывая на улицу, на свой облепленный плотной пылью у обочины дороги гарем, и сверкая перьями, точно груда раскалённых углей, на ограде гордо красовался огненно-красный петух.
Араксия быстренько накрыла на стол.
По двору поплыл дух разогретого свежего молока.
– Нет, стоит всё-таки жить в деревне, – сказал Роберт. – Что ни говорите, стоит.
– Жить в деревне, только не работать, – с улыбкой добавила Араксия.
Я вручил Араксии припасённые гостинцы. Она смутилась:
– Зачем было беспокоиться? Ставите нас в неловкое положение.
– Эти два блока сигарет передадите мужу. – Я протянул ей сигареты.
– Ещё чего не хватало! – беря сигареты, со смехом сказала Араксия. – Ни одной пачки ему не дам. Десять сигарет в день, и только «Памир» или «Аврора», не имеет он права курить больше.
Дочь Араксии Алвард сидела на веранде, поглядывала оттуда своими большими, грустными, миндалевидными глазами и улыбкой реагировала на слова матери; она не могла двинуться с места.
– Десять сигарет – это чересчур, – поддакнул хозяйке Роберт. – Хватит ему и пяти.
Рена подошла к Алвард, они познакомились. Долго разговаривали, и, глядя на неё, Алвард мягко улыбалась красивой грустной улыбкой.
– Идите, Рена-джан, всё готово, – позвала Араксия. – Где ты, Лео, выискал эту писаную красавицу. Ровно как с картины сошла.
– А Лео чем вам не угодил? Парень хоть куда, – встал на мою защиту Роберт.
– Кто сказал, что не угодил? Очень даже угодил. Хорошая они пара. Вот ежели две половинки друг друга не сыщут, тогда беда. – Араксия восхищённо смотрела на Рену. – Таких красавиц только в кино показывать.
– Он из кино и взял, – пошутил Роберт. – Зря, что ли, на телевидении работает.
– Ты тоже с телевидения? – спросила Араксия.
– Я-то?.. Я тружусь в министерстве связи Азербайджанской республики. Хочешь, проведу вам в дом телефон?
– Благодарствуй, – улыбнулась Араксия. – Телефон у нас есть. – И снова взглянула на Рену. – Видно, доброе у неё сердце, – словно сама себе с глубокой печалью добавила она, глядя на неподвижно сидящую на полу веранды дочку.
Рена приблизилась к нам, и я увидел в её глазах неприметную для всех иных блёстку слезы.
– Бедняжка, – прошептала она, – по сути, моя ровесница, ей девятнадцать.
– Как же ты с таким-то сердцем собираешься стать врачом, – тихонько сказал я, – к тому же педиатром?
– Сама не знаю, – прошептала она, склонив голову мне на плечо. – Девятнадцать лет из-за неправильного лечения парализована и прикована к месту.
– Садитесь, – подойдя, пригласила нас к столу Араксия. – Всё свежее: молоко, яйца, сливки, масло и мёд. Молоко, масло и сливки от наших коров, яйца – от наших кур, мёд – от наших пчёл. Перекусите, передохните, потом сходите к морю, вернётесь – всё будет готово. На обратном пути не забудьте хлеба в магазине купить. А больше ничего не надо. Всё есть.
Роберт вспомнил – мы тоже кое-что привезли, сходил и достал из багажника «Жигулей» янтарно-жёлтый сладкий виноград, арбуз, дыню, минеральную воду, не забыл, конечно, и бутылки моего «Ахтамара» и своей любимой водки «Гжелка». «В один прекрасный день я от этой “Гжелки” тронусь умом», – со смехом сказал Роберт.
Из сада возле дома в лес вела калитка, и, аккуратно прикрыв её за собой, мы по утоптанной сырой тропинке, то и дело перепрыгивая бурлящие и журчащие ручейки, спустились к морю, откуда веял слабый ветерок, шевеля мелкие кусты и словно поглаживая то один, то другой листик.
Цветы по обе стороны тропинки доставали до пояса, на них, звучно жужжа, садились шмели, и цветы под их тяжестью поникали до земли и еле-еле покачивались под лёгким ветерком.
Где-то неподалёку запел жаворонок и тут же умолк.
С обочины поросшей травой тропинки с шумом вспорхнула синица и, сразу же взяв вбок, унеслась между деревьями. Чуть ли не оттуда же сорвался чёрный дрозд, стремглав сделал широкий круг и с громким вскриком исчез во тьме камышника. Рыжие муравьи поспешали в дупла деревьев, однотонно пели сверчки, защебетала и затихла птаха.
– Лео, смотри. – Рена остановилась, улыбаясь приоткрытыми губами. – Не видишь?
Роберт не глядел в нашу сторону, он с поднятыми руками влез в цепкие кусты ежевики и знай поедал её.
– Смотри, неужели не видишь? – Держа меня за руку, Рена указывала на невысокое дерево, в кроне которого поблескивал солнечный луч. – Он смотрит на нас. Да сосредоточься же! – бурно восторгалась она.
Я увидел не сразу. Кружась в листве, защебетала красноклювая светло-коричневая птаха. Чуть поодаль глухо и тоскливо куковала кукушка. Её клики напоминали стук сердца. Потом откуда ни возьмись, рассыпал свои трели соловей, в лад которому вторила канарейка и токовал глухарь, и лес из конца в конец наполнился весёлым птичьим гомоном.
Повсюду валялись отжившие свой век поваленные деревья, слизкие от лесной сырости, с блестящим наподобие изумрудного бархата мхом и оставшиеся подо мхом острые корявые сучья.
Между деревьями косыми пучками сквозил свет, это была просторная поляна посреди тёплого неподвижно-дремотного густолиственного леса; в синеватой зыбкой дымке, звякая бубенцами, паслись коровы. Где-то там же стояла стреноженная лошадь, её не было видно, только время от времени позвякивали её железные путы.
– Чудесные места, Лео, – с блаженством оглядываясь окрест, прошептала Рена. – Я их не забуду, никогда не забуду.
Дурманный аромат таволги, первозданный острый запах прошлогодней залежалой листвы, влажной земли и девственной чащи, звёздочки берёзы в образовавшихся после дождя лужицах, виднеющиеся сквозь просветы в высоких кронах устремлённых кверху дубов осколки неба – всё это напоминало мне тот давний, тот далёкий день, когда мы с Айриком направились за Кыгнахач – посмотреть разрушенные старые их дома в Бурджали.
– Идите сюда, я для вас ежевики набрал, – позвал спереди Роберт.
За шоссе показалось море – пустынное, безмятежное, бескрайнее. Море и небо слились, издалека трудно было разобрать, где начинается море и кончается небо. Омытые щедрым солнечным светом разом объявлялись мелкие волны, поблескивали на поверхности синих-пресиних вод, исчезали и, сияя слепящим блеском, объявлялись опять.
Взяв меня под руку и прижавшись щекой к моему плечу, Рена не отводила глаз от восхитительного зрелища.
Море звало нас.
… Повинуясь этому зову, держась за руки, мы спустились к морю. Что произошло в изменчивых, резвых мыслях Рены, в этот момент было неясно. Лучезарно улыбаясь, она быстро сняла обувь и, скользнув пальцами в туфли, надела их на руки, второпях, пересекла трассу и босиком побежала на пляж.
И, пока я, обойдя редкие кустики, бьющие из-под неблоьших острих камней роднички, дошел до нее, она уже разделась, скинув одежду на песок, в купальнике бросилась в море, рассекая воду, равномерными движениями точённых ног и рук отдалялась от берега.
— Далеко не уходи, Рена,- громко крикнул я, — там акулы.
Однако, среди гула , несущегося из глубины моря, рокота волн, бесконечного крика чаек, вряд ли, она меня могла услышать.
Акулы были и в самом деле. Причем, не одна. несколько… Образовав круг, они то подгружались в воду, на мгновение оставляя за собой небольшие воронки, то появлялись вновь, черные, как смоль, мерцая в ярких лучах солнца
Роберта все не было, наверное, он ест там ежевику.
Вдалеке, где небо опустилось и слилось с морем и, действительно, не возможно было различить, где кончается море и начинается небо, виднелся белоснежный корабль. С берега не было видно: возможно он не и стоял, а медленно двигался вперед. Также не понятно было, пассажирский ли это корабль с палубами и каютами или рыболовецкое судно, бросившее якорь вдали, в той синеватой дымке, где море сливается с небом.
Рена развернулась, и, как прежде, разрезая руками воду, плыла к берегу.
— Иди, — позвала она издалека.- Ты думаешь, вода холодная? Совершенно нет. Не бойся, иди!- Она улыбалась своей лучезарной, прелестной улыбкой, и это было не только улыбкой, это было обольщением, приглашением. С ревностным восхищением я смотрел на нее, действительно завидуя самому себе в том, что она — моя.
Я быстро разделся и вошел в воду., которая вначале показалась очень холодной. и поплыл навстречу Рене. Когда были уже совсем близко, она протянула мне руку, поймав её пальцы, я притянул Рену к себе, прижал к груди и так, обнявшись мы раскачивались на волнах, сверкающих в лучах солнца
— Какое блаженство, — с закрытыми от этого самого блаженства глазами, сказала Рена, и, наклонив голову, прильнула лицом к моей щеке. Медовый аромат ее дыхания сводил с ума, глядя на нее и восхищаясь ее очаровательной внешностью, я, улыбаясь, подумал, что прелесть блаженства, видимо, можно почувствовать только с закрытыми глазами.
— Блаженство — это и есть счастье, — наконец, мечтательно произнесла Рена.
— Наверное,- сказал я.
— А ты можешь сказать, где начинается счастье, и где оно кончается?
— Моя сладкая Рена, — опалёнными зноем губами касаясь ее обнаженных плеч, ответил я, внутренне испытывая это восхитительное удовольствие в бескрайнем море. — Для меня счастье начинается с тебя и заканчивается тобой.
Рена с умилением взглянула на меня и сказала ласковым голосом:
— Цавд танем, но неужели ты можешь любить, как я? Ты не можешь любить, как я. Знай, мужчины и женщины любят по-разному. Любовь для мужчины — это часть его жизни, а для женщины любовь — не часть ее жизни, а ее жизнь полностью.
— Поэтому женщину нужно боготворить, тем более, что она не знает себе цену. Ты — мое совершенство, Рен. Ты — мое дыхание, моя душа и вдохновение. Ты достойна только преклонения. Ты слышишь меня?
Рена взволнованно затрепетала в моих объятиях, будто пытаясь проникнуть в меня.
Волны, залитые ярким солнечным светом вокруг нас, то приступали белой пеной, то исчезали и снова появлялись, ослепительно сверкая, на волнующейся поверхности моря.
Чайки неустанно парили над морской гладью, а то опускаясь и садясь на воду, раскачивались на волнах
— А ты знаешь, что я люблю тебя?,- широко раскрывая глаза, обрамленные длинными ресницами, неожиданно спросила Рена, улыбаясь глядя на меня.
Я продолжал ласкать ее, гладить и целовать её гладкие плечи, на которых сверкали хрустальные капельки воды.
— Нет, скажи, ты знаешь, что я люблю тебя?
Я кивнул в знак согласия… да, я знаю, что она меня любит.
— И что я до умопомрачения люблю тебя, и об этом знаешь?
Я снова утвердительно кивнул головой и с улыбкой сказал:
— Любовь всегда совершенна и прекрасна, по-своему, только бы она была в сердце, шла от сердца. Однако то, — продолжил я, — что те слова, которые я произнес тебе в моем кабинете, ты можешь повторить наизусть, я не знал.
Рена, повернувшись, снова затрепетала в моих объятьях
— Смотри ка, помнит, — засмеялась она, — ишь какой хитрый… а когда ему выгодно, жалуется на память. -Сказала и с нежностью добавила: — Я хочу все время быть с тобой, Лео. Разлука сводит меня с ума. Это так!. Я постоянно хочу видеть тебя, считаю минуты до встречи, и когда ты рядом, когда я с тобой, то забываю обо всем на свете, начинаю верить во всё самое — самое хорошее… И эта, так называемая, жизнь, кажется, в сравнении со счастьем, чем-то мелким и ничтожным, и в душе моей порхают разноцветные бабочки, окутанные этим счастьем…
Я резко повернул ее к себе, с бурной страстью целуя строптивые губы, шею, глаза, снова и снова гладкую шею и пламенные губы… Не мог насытиться.
Потом, держась за руки, мы заплыли далеко, до буйков, дальше которых заплывать строго запрещалось.
Затем, касаясь спинами волнующейся поверхности моря , долго качались на волнах и глубокое темно-синее безбрежное море нежно убаюкивало нас, а высоко над нами простиралось ни менее синее небо с белыми клочьями облаков да чайками, которые постоянно сопровождали нас, то отставая, то снова приближаясь и оглашая пространство своими криками.
Далее Рена, операясь на мои руки, скользила по ослепительным водам.
После мы плыли параллельно, пальцы моей правой и ее левой руки были сплетены.
Потом Рена сказала: » Моя любовь к тебе с каждым днем и с каждым часом становится сильнее, все больше и больше, иногда кажется, что без тебя мое сердце от тоски разорвется на куски», и от этих слов душа моя ликовала, сердце в груди стучало беспорядочно.
А с берега нас уже звал Роберт. Он принес собранную ежевику.
*******
Мы возвратились с берега, когда солнце спускалось, садилось на леса и высокие макушки деревьев горели, пылали под светом слоистого зарева.
– Изумительные места, Лео, – как и до того, как войти в море, когда мы еще стояли по ту сторону шоссе, снова сказала Рена, с признательностью глядя на меня. – Никогда в жизни не забуду… Я и не знала, что есть у нас в республике такая красота
– А если бы ты оказалась в Белоканах или Лерике, в пятидесяти пяти километрах от Ленкорани, ближе к горам. Знаешь, какие места? Чудо!
Мы направились за хлебом. Рена и Роберт остались у входа, а я зашёл внутрь. Чего только здесь не было, в этом сельском магазине с въевшимся в стены, как и в любом сельмаге, запахом сырости. Купив хлеб, я посмотрел, чем тут ещё торгуют. И увидел на витрине французские духи «Шанель №5». Сколько времени я искал их для Эсмиры. Рене я купил «Климу», её любимые духи. В городе их трудно достать. И – о диво! – продавщица показала мне красивую вещицу – золотой кулон с голубоватым бриллиантом в размере головки иглы посередине. Работа была очень тонкая, я не мог не восхититься, потому что уже давно по специальному заказу купил для Рены у знакомого ювелира золотую цепочку вязки «Лючия», а вот достать кулон никак не удавалось. Из магазина вышел в приподнятом настроении. Рена дожидалась у двери, не сводя с неё глаз, и как только меня увидела, широкая улыбка озарила её лицо, словно успела соскучиться в разлуке.
– Очередь, что ли, за хлебом? – удивился Роберт.
– Смотри, Рена, что я тебе купил! – открыв изящную коробочку, радостно выпалил я. – До чего красив! Красивый, правда?
– Красивый, – восхищённо похвалила Рена и подняла на меня синие свои глаза с яркой искоркой летнего солнца. – Спасибо, я буду хранить это как талисман. – сказала она и, сжав кулон в ладони и прикрыв глаза, тихо, как молитву, продекламировала:
Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в дни печали будь со мной…
Рена открыла лучистые прозрачные глаза и взглянула на меня ликующим смеющимся взглядом.
– На самом деле чудесный, Лео, – снова восхитилась Рена и прижала кулон к губам. – Он всегда будет со мной, – с нежностью прошептала она. – Повсюду, куда я ни пойду, где ни окажусь, он будет со мной и убережёт от зла, непременно меня убережёт… для тебя. – Она с улыбкой посмотрела на меня, неожиданно в приливе восторга бросилась мне на шею и, не стесняясь Роберта, своими мягкими тёплыми губами поцеловала в щёку. Сняла подаренную мной цепочку и надела на неё кулон. Я помог ей защёлкнуть на шее затвор.
– Это тебе, а это Эсмире, – протягивая Рене коробочку с духами, весело сказал я. – В память о Набране.
Рена растроганно посмотрела на меня и прижалась головой к моему плечу.
– Поздравляю, – сказал Роберт. – Видишь, Лео, какая у меня лёгкая рука. Пошли. Вот-вот придёт муж Араксии, надо поскорей зарезать.
– Ну хватит! – засмеялся я. – Что вы к человеку пристали?
До Роберта только-только дошло, что он изъяснился, как Араксия, и он громко рассмеялся.
…Муж Араксии Саргис уже пришёл и, стоя под ореховым деревом, ждал нас. Несмотря на летнюю жару, на нём отчего-то была шапка-ушанка. Одно её ухо уморительно торчало, другое – висело, и когда он разговаривал, длинные шнурки трепыхались.
Мы поздоровались. Роберт пошёл с хозяином дома выбирать ягнёнка.
– Перекусили бы, пока шашлык не готов, – предложила Араксия. – После моря аппетит разыгрывается.
Есть нам не хотелось, и мы отказались.
– Ну, тогда покажу вам наши покои. – Араксия повела меня с Реной к новой двухэтажной пристройке у дома. В нашу бытность здесь в минувшем году её ещё не было.
– Сын выстроил, – с нескрываемой гордостью пояснила Араксия. И добавила, повернувшись к Рене: – Сын с дочерью в Свердловске живут. Окончили там институт и остались. По торговой части пошли. Сын женат, и дочка замужем. Да только неудачно, – вздохнула она.
Мы поднялись по деревянной лесенке. Покои смахивали на двухкомнатный меблированный гостиничный номер со всеми удобствами, с выходившими в сад окнами и синтетическими коврами на стенах и полу. Были здесь и телевизор, и магнитофон.
Араксия включила телевизор.
– Ты передохни, а я спущусь, помогу Роберту, – сказал я, с нежностью глядя на Рену. Бог ты мой, как я её любил, готов был опуститься перед ней на колени и с неутолимой жаждой целовать руки.
– Ступай, – улыбнулась она, и я покинул их; Араксия с головой погрузилась в деревенские воспоминания, а Рена стояла у окна.
Роберт и Саргис оживлённо беседовали. Они оказались земляками, оба родом из Шушинского района, один из Бердадзора, другой – Каринтака. Саргис знавал отца Роберта, майора НКВД Амбарцума Севумова. Точнее, будучи ещё мальчонкой, много раз его видел – приземистого, с узкими, маленькими монгольскими глазами жуткого сквернослова с жестоким нравом.
– Человек он был строгий, – рассказывал Саргис, – держал в кулаке всех окрестных крестьян. Когда приезжал в Каринтак, у людей сердце в пятки уходило.
– А что он такого делал? – поинтересовался Роберт. – Бил?
– А то нет, – глухо сказал Саргис. – И бил тоже. Кого только прямо в сельсовете не брал под арест. Правду молвить, народ так его боялся, что воровства в наших краях и не было.
– Меня он тоже частенько поколачивал, – засмеялся Роберт. – И ничего… Держи его за ногу, вот здесь!.. Верный солдат партии, служака. Поручат ему побить народ, он и побьёт.
Чёрный ягнёнок повис на крюке вниз головой. Роберт окинул его оценивающим взглядом и принялся точить один о другой ножи.
– Что ни толкуй, я к селу своему крепко привязан, – ни с того, ни с сего сказал Саргис. – Хоть и загнали нас по вербовке в город, а сердце-то к родному дому прикипело. Тосковали мы по селу и тоскуем. Я тут всё равно не останусь, вернусь в родные края.
– Роберт, – кликнула издали Араксия. – Христом-Богом вас прошу, заклинаю, возьмите вы этого человека в Баку да посадите на поезд, жаль его, пускай катится в своё село.
Саргис обернулся назад и через силу изобразил улыбку.
– Все уши прожужжал за тридцать лет: стосковался по селу, без него и жизнь не в жизнь, – поджав губы, напустилась Араксия на мужа и повелительно добавила: – Уезжай! Домашние дела все на мне, с огородом я управляюсь, фасоль я поливаю, коров я дою, а у него руки что крюки, ничего делать не может. Завтра же собирай манатки и скатертью дорога. Поглядим, кто кроме меня тебя будет обихаживать.
Саргис хмыкнул в усы, скривил рот и тихо возразил:
– Сын будет.
Услыхав, Араксия злорадно засмеялась:
– Сын-то не твой, а мой. Понадеялась бы на тебя, и его б не было, – от души засмеялась она и даже голову назад откинула. – Не смилостивься Господь, уродился б он в тебя ни к чему не пригодный. Сидел бы возле скотины, пока пасётся, да зевал. А он в огромном городе целым гастрономом заправляет, во как! Расскажи-ка ты лучше, как ухитрился тринадцать наших овец проворонить.
– Надоела до смерти, – тихонько, чтобы жена не услышала, сказал Саргис и снова хмыкнул в усы.
– Средь бела дня у него из-под носа увели овец, он и не заметил.
– Будь у меня ружьё, не увели бы, – оправдывался Саргис.
– И ружьё бы проворонил, – уверенно сказала Араксия. – Хоть бы и тебя со скотиной увели. Сочли бы бараном, четырнадцатым по счёту. – Араксия громко засмеялась.
Саргис только рукой махнул, на его лице читалось, мол, неохота с тобой связываться.
Он попросил у Роберта закурить.
– Наш Каринтак – село геройское, – гордо сказал он. – О нём и песня сложена.
Каринтак – глубокое ущелье,
Камни, камни там, на глубине.
Передайте милой, пусть узнает –
Голову сложил я на войне.
Мать, помню, пела и плакала. Сколько армян в Отечественную войну погибло – всех убило в Керчи. – Он расстроенно покачал головой, на миг умолк и продолжил: – Село назвали Каринтак , потому как оно под утёсом расположилось, а выше, на утёсе, стоит Шуши. Сколько раз турки швыряли сверху на нас каменья да горящие шины скатывали. Односельчане, и мама тоже, своими глазами видели в феврале 1920-го, когда турки подожгли город, армян – женщин и детей – сбрасывали с верхотуры вниз. – Саргис опять разволновался, замолк. – Но за всю историю не случалось ни разу, чтоб они наше село заняли. Оно у нас каменистое, но красивое, – с каким-то блаженством сказал он. – Нашего сельчанина Герасима Сулейманяна, который письмо в Москву написал насчёт воссоединения Карабаха с Арменией, отправили в ссылку. Когда уводили его из села, он и молвил со слезами: «Ах, родители мои, камни, родители мои, родники горные, осиротели вы».
– Много у вас родников?
– Много. Студёные, так и булькают, так и журчат, – воодушевился и затосковал Саргис. – Охна, Каменный, Пехин, Бог Охоты, Крмнджин, всех и не упомнишь. Ещё был родник, именуемый Липа; сложен из отёсанных камней, а над ним арка с армянской надписью. Сооружение ещё до войны разобрали, камни переправили в Шуши – там райком строили. В ущелье Онут тоже хороший родник, мы его Шор называем. На нём дата высечена, когда его поставили, – 1248 год. А выше того родника – Черепной шов, место высоченное, так турки и оттуда сбрасывали армян в ущелье. И не только армян, одиннадцать русских женщин и с ними девочку тоже столкнули вниз. Вы развалины Шуши видели? – спросил Саргис и, не дожидаясь ответа, с горечью сказал: – Я-то видел. Помню как сегодня, два ряда каменных домов, двух-, трёх-, четырёхэтажные, без кровель, с почернелыми от огня стенами. Мы с ребятами носили в Шуши на продажу туту, ежевику, кукурузу. Так вот, подсчитали мы и в тетрадке записали, больше семи тысяч сожжённых домов. Потом их бульдозерами снесли, сровняли с землёй. Непонятно, чего ради, можно же было восстановить, нет? Целый город сровняли с землёй. Не по-человечески это, не по-людски. Но, поговаривали, указание поступило сверху, из Баку. Секретарём Карабахского обкома был в ту пору Шахназаров. При Шахназарове это случилось.
Роберт умелыми быстрыми движениями свежевал ягнёнка. Собрал в комок содранную и вывернутую наизнанку шкуру, которая то и дело выскальзывала у него из рук, взглянул на жирные рёбрышки, круглый белый курдюк и довольно сказал.
– Видал, братец, какой я парень, – глядя на меня широко открытыми глазами, улыбнулся Роберт. – Всё мне по плечу. Так или нет?
– По плечу, – согласился Саргис и продолжил свой рассказ. – Ага-Мухаммед-хан в 1795 году ровно четыре месяца пытался захватить Шуши, да не тут-то было. Разозлившись, двинулся на Тифлис и сжёг его. А в 1826-м персидские войска окружили Шуши. Одна каринтакская девушка из рода Аветанц, по имени Хатуи, муку молола на мельнице в ущелье, она-то и стала через скальные расщелины носить голодающему русскому отряду муку. Сорок восемь дней доставляла её окружённым. А потом она по ходатайству русских до конца своей жизни царскую пенсию получила.
– Сколько у вас в селе домов? – спросил Роберт.
– До восемнадцатого года триста десять было, нынче осталась половина. Когда я в школу ходил, учеников у нас было двести шестьдесят, сегодня – сто двадцать. Раньше фабрика действовала, здорово было, мать моя тоже там работала, стахановкой была. Теперь закрыли фабрику, – с грустью добавил Саргис. – Ну а коли работы нету, человеку что на селе делать? Оттого-то народу там всё меньше. Семьсот лет назад село наше много бойцов армянской армии давало. В сражении под Аскераном четыреста карабахцев, среди них и наши сельчане, дрались против турецкой армии и победили. А летом 1919-го мусаватисты, которых англичане вооружили пушками, напали на Каринтак и снова были биты. В восемнадцатом, когда защищали Баку от турок, в боях участвовало больше сотни человек из нашего села. Армянских героев, погибших в этих боях, похоронили на подворье Большой церкви, там, где нынче консерватория; церковь снесли, заодно и могилы. Нет, уеду, не по нутру мне тут.
– Что ты мелешь, никак не угомонишься! – бешено налетела на мужа Араксия. – Как двухмесячный младенец в люльке, спит ли, нет ли, всё одно, сигарету, что соску, изо рта не выпускает. Из материнской утробы тоже небось так вылезал – пыхтел дымом, ровно паровоз. Возьмись за дело, скинь эту дурацкую шапку. Шампуры найди да принеси, костёр разожги.
Саргис растерялся, видно, неловко себя почувствовал и, глядя то на меня, то на Роберта, жалко улыбнулся. Повернулся и, не снимая шапки, побрёл в сторону сада.
Проходя мимо Араксии, он на ходу попрекнул жену:
– Ни стыда у тебя, ни совести. Посторонние не помеха, только бы себя показать.
– Тут кроме тебя посторонних нету, – поспешно и звонко парировала Араксия, не обращая на упрёк ни малейшего внимания. – Благодари Бога, что они здесь, не то устроила бы тебе. – Неожиданно она коршуном налетела на него и так огрела по голове, что шапка ракетой улетела за ограду. – Сказано тебе, сними шапку! – довольная собой, она от души засмеялась.
Саргис побледнел и встал как вкопанный, затем тихо, качая головой, вышел со двора, нахлобучил на голову шапку с висячим и торчащим ушами и, ни на кого не глядя, медленно завернул за дом, наверное, за дровами.
– Чтоб через пять минут огонь полыхал! – сзади, руки в боки, распорядилась Араксия.
– И как только тебе удалось, Араксия, скрутить в бараний рог человека с такими храбрыми предками? – сказал Роберт.
– А так! Мои предки были ещё храбрее, – нашлась Араксия.
******
Было непонятно – луна то ли выплыла из тёмного моря, то ли пряталась за садами у домов. С Араксиного двора мы тотчас увидели её величавое скольжение по громадному летнему, искрящемуся и полному звёзд небу. Поднималась луна медленно и торжественно, застилая серебряными своими лучам пустынные деревенские улицы. Обманутые светом, запели было птицы неподалёку в лесу и рядом с нами, в глубине сада. Пели они голос к голосу, не давая передыху друг дружке. Рена улыбалась, прислушиваясь к их пенью и мечтательно глядя в далёкое небо.
Отсюда, из-под орехового дерева с густой кроной, мерцавшие далеко-далеко в небе звёзды казались близки одна к другой, хотя на самом-то деле и сверкающие эти звёзды, и созвездие Большой Медведицы, вокруг которых также беспрестанно вспыхивали и гасли звёздные миры, пребывали в миллионах парсеков от Земли и друг от друга и лили свой нескончаемый синевато-фиолетовый свет из необозримых далей.
Этот звёздный, из далёкого далека свет, лучился сейчас в сияющих глазах Рены; глядя на неё, я не в силах был сдержать отчаянного восторга, в который приводил меня ослепительный её облик, и, уставившись в небо, я мысленно слал Богу благодарственные молитвы за ниспосланное мне несказанное, неизмеримое счастье.
– Колдовской вечер, – крепко прижимаясь ко мне, прошептала укутанная в Араксину шаль Рена; с моря дул холодный ветер, Араксия принесла из дому шаль и набросила ей на плечи. «Как бы не простыла», – по-свойски, словно родственница, шепнула она.
– Саргис, можешь спеть? – спросил порядком уже захмелевший Роберт.
Это какой же пьяный не споёт? Однако петь, очевидно, хотелось именно Роберту, вот он и подыскивал повод.
– Какую-нибудь песню, – сказал Роберт.
– Не надо, – запротестовала Араксия, – не умеет он петь.
Наперекор жене Саргис неожиданно вытянул шею и запел: «Жаль, моя жизнь, моя жизнь миновала, словно весна, словно и не бывало, юности птица отщебетала, я и не понял – когда».
Саргис пел сердцем и пел неплохо. Я этого не ожидал и с удивлением посмотрел на него – маленький, невзрачный, небритый, выцветший пиджак порван под мышкой.
– Видишь, как поёт! – похвалил Роберт. – А ты говорила: зарежем. Виданное ли дело – такого певца резать?
Араксия со смехом сказала:
– Скрытый талант, увозите, пускай по телевизору поёт. А заплатят?
Роберт кивнул.
– Ну, коли так, и я спою, – сказала Араксия и тут же запела, потряхивая головой:
Ночь лунная, сна нету никакого.
Иной решит, что у меня нет крова,
Ах, кров есть, ах, у меня есть кров.
Араксия глубоко вздохнула, прикрыла веки и затянула дальше, всё так же потряхивая головой:
Как все, живу я под защитой крова,
Да нет со мною друга любимого,
Ах, любви и счастья нет.
Внезапно прослезившись, она вытерла глаза ладонью и, смеясь сквозь слёзы, показала мужу растопыренную пятерню, знак проклятия – пропади ты пропадом, суженый мой.
Рена смотрела на это, забавляясь.
– Гори всё огнём, – пьяный, глаза на мокром месте, прохрипел Саргис. – Не останусь я тут.
– Пошевеливайся, поезд «Москва–Баку» в Худате прилично стоит, успеешь, есть ещё время, – засмеялась Араксия. – Ступай, споёшь один-два куплета, бесплатно довезут.
Роберт тоже спел, его песня была трогательной, а последние слова он сочинил самолично. «До чего хороший день, – протянул он на мотив какой-то песни, – лучше не бывает».
Чем дальше, тем ощутимей становилась ночная прохлада.
– Простынешь, иди-ка в дом, – сказал я Рене с безмерной нежностью. – Араксия, проводите её, пожалуйста, в комнату.
– Как не проводить? – с готовностью сказала хозяйка, вскочила, точь-в-точь юная девушка, и подхватила Рену под руку: – Пошли!
Роберт по новой наполнил рюмки.
Саргис опять спел, теперь уже на родном своём наречии: «Красная тучка там, на горе, медленно почернела, красная нынче наша судьба завтра, глядь, почернела, – пел Саргис, покачивая головой. – Нынче ты молод, а завтра стар, вот какая недоля, сон ли ты видишь средь бела дня, сон этот полон боли».
Мы сидели уже довольно долго, мне очень хотелось к Рене, но бросать Роберта было как-то неловко.
– Вы молодые, а я состарился, – задумчиво сказал Саргис. – Задолжал я своему селу. Оно меня на свет явило, вскормило, вырастило, а я ничего для него не сделал. – Сказал и, снова вытянув шею, запел: – «Тебе уже сорок, Саят-Нова, и смерть с тобою бок о бок». – Пропел и заплакал. А взяв себя в руки, спокойно, но, пожалуй, участливо и снисходительно добавил:
– Раздетых, голодных, отец-то на фронте пропал, угнали нас, трёх братьев, в чужие края, и ничего нам не осталось, разве что тосковать по горам нашим да ущельям. Нет в Сумгаите дома, где я не поработал, – штукатурил, облицовывал, со счёту собьёшься, сколько всякого-разного сделал, соорудил. Да кто ж это ценит? Некому ценить… Между прочим, и тут, в лесах Набрана, есть и могилы с армянскими надписями, и древние поселения, сам видел… Вот Касумкенд, большое селенье по соседству с нашим, туда ходит автобус из Баку. Оно не в Азербайджане – Дагестану принадлежит. Один наш сосед оттуда родом, ездили мы на похороны, так там на кладбище полно испещрённых армянскими письменами могильных плит. Старик лезгин мне сказал, мол, их предки были армянами. Да, на одном таком надгробье, там не иначе богач похоронен, – интересная надпись. Вот, значит, примерный её смысл: я был такой, как ты ныне, ты станешь такой, как я ныне… Чуете, что за слова? Эх, чего мы в этой жизни поняли! Явились в неё, ровно сухой лист на ветру, так и минем… – И Саргис опять запел: – «Земля в Керчи каменистая, пуля свистит неистовая».
Спать Саргису с Робертом предстояло в одной комнате. В конце концов я оставил их под ореховым деревом за беседой и направился к Рене.
*******
Свет был погашен, но Рена не спала. Полулёжа в отсветах экрана в ночной рубашке на белоснежной постели и откинув голову на стенку кровати, она смотрела телевизор. Я заметил – моя постель в смежной комнате тоже расстелена.
– Ещё не спишь? – спросил я с любовью и неизмеримой заботой, запер дверь, небрежно бросил пиджак на диван и подошёл к ней.
Оконная створка была открыта, явственно слышался неровный глухой рокот моря. Я опустился перед Реной на колени, как перед иконой.
Сердце билось встревоженно, беспокойно.
– Знала бы ты, как идёт кулон к изумительной твоей шее…
– Правда? – Рена слегка приподняла своё светоносное тело, невесомое и гибкое, привычным движением отвела в сторону спадающие мелкими волнами золотистые локоны, смущённо улыбнулась и ласково обняла меня нежными руками. – Знаешь, что сказала как-то раз Эсмира? Я играла на пианино «Серенаду» Шуберта. Почувствовала на себе взгляд. Обернулась. Эсмира бесшумно вошла, уселась на диван, поджала по-кошачьи ноги и смотрит на меня. По её мнению, раз я, оставив книги и конспекты, играю Шуберта, значит, думаю о тебе и скучаю. Засмеялась: «Не мучайся, давай я позвоню, а ты поговори». Знала б она, где я сейчас. Сама не понимаю, Лео, что я делаю, совсем с ума сошла. Не дай Бог, наши узнают про мои приключения в двухстах двадцати километрах от города. Ох и влетит мне, если проведают. Но ведь я счастлива, – обжигая мне лицо жарким дыханием, шептала Рена. – Я прямо-таки блаженствую… Не могу поверить, что это не сон и не видение, что это явь, что ты здесь, рядом со мной, я тебя вижу. Даже сомневаюсь, потому что не может одному человеку достаться столько счастья.
Не отрываясь, я смотрел на её шевелящиеся, горячие, огненные губы, и душа переполнялась нежностью.
– Моя сладкая, бесподобная, – лепетал я. – Как Бог создал женщину, как он вложил в неё доныне неведомую могучую магическую силу? Как она, такая слабая, способна дойти до сердца самого всесильного мужчины, обольстить его светозарным взором? И знаешь, каково совершеннейшее дело Творца? Сотворение женщины, столь прекрасной, дивной и безупречной. – Я поцеловал её в губы. – Моя сладкая, душа моя, с твоих уст сочится ароматный сотовый мёд.
Я не мог оторвать своих жаждущих губ от этого вожделенного рта. С лицом, залитым алым и багряным светом, то меркнущим, то снова льющимся с экрана телевизора, Рена была прекрасна, я ненасытно, теряя рассудок от сладкой истомы и счастья, целовал её; чуть погодя из-за дома как-то сразу выплыла луна, щедро озарив и нас, и комнату.
Рена была дивно хороша в этом лунном свете, словно восставшая из него богиня. Из-под прозрачной кружевной голубой рубашки проступало чудное тело со всеми его изгибами. Упругие груди с тёмно-розовыми, как малина, сосками звали, манили. Полуприкрытые глаза с длинными ресницами, горячечный шёпот изнывающих от нетерпения жарких губ: «Иди, иди ко мне, скорей же», нерешительная дрожь её тонких пальцев на пуговицах моей рубашки, учащённое дыхание, когда я, возбуждённый любовью, лихорадочно обнимал её и ощущал пьянящее родное тепло её преисполненной нежностью и страстью налитой груди, гладкого, не больше перевёрнутой тарелки живота, бёдер – всё это представлялось иллюзией, сном. «Любимый, любимый, любимый, – прерывисто стенали непорочные горячие Ренины губы. – Я твоя, люби меня, твоя навсегда», – угасающим шёпотом повторяла она. Мои руки с ненасытным упоением ласкали её грациозное тоненькое тело, которое чудесным образом расширялось на точёных бёдрах; я жаждал любить её, слиться с ней всем своим существом – телом, любовью, ревностью, огненными страстями, чувствами и помыслами; скулы, губы, всё моё лицо погружалось в её высокую тугую грудь; торчащие соски с розовыми ободками словно б обидевшись и запротестовав, освободились от насилия моих ненасытных губ. «Ты слышишь, я твоя, – повторяла Рена задыхающимся дрожащим голосом, и её цветущее благоухающее горячее тело, которое, казалось, угасало с каждым моим прикосновением, невольно подавалось вперед,– моё сердце принадлежит тебе, я твоя, твоя всецело, делай со мной, что хочешь… Ты первый поцеловал меня, и я твоя навечно». «Нет, нет, нет, – шептал я, задыхаясь и жадно целуя её от кончиков шёлковых волос до пальцев ног и вновь и снова – от нежных пальчиков ног до восхитительных глаз с золотистыми ресницами и дугами бровей; в то же время я силился задержать и пресечь неизъяснимое лихорадочное бурление закипающей во мне крови. – Никто, никто, никто не в силах устоять перед твоим очарованием, Рена, перед волшебством твоих раскрывшихся, как роза, губ, перед сладостным колдовством твоего тела не устоит никто». «Ты же можешь». «С трудом, Рена, с трудом». «Может, ты не любишь меня? – тревожно шептали её губы. – Не любишь?» «Люблю, – лихорадочно шептали в ответ мои губы, – очень люблю, Рена, очень и очень, оттого и не вправе трогать тебя. Твоя честь – твоё богатство, и она дороже всего».
Я неустанно с безумной страстью ласкал, и лелеял, и целовал свою восхитительную Киферею, свою Суламифь, покамест она не заснула на моей груди. И меня сызнова волновало всё это: спящая Рена, её улыбающиеся во сне, подобные коралловому кокону губы, спокойное, едва уловимое дыхание, песня сверчков за окном, неутомимый удаляющийся и близящийся рокот моря за домом и за оградой, шелест и шуршание шевелящейся на лёгком ветерке листвы орехового дерева, доносящийся из лесной глуши голос ночного труженика – невидимой ночной птицы, петушиный клич на околице селенья, спросонок возвещающий о рассвете, и зычный отклик на него здесь, на Араксином дворе, – зыбкое, ломкое кукареку.
*******
Утром, едва забрезжил свет, я проснулся. Солнце ещё не появилось из-за моря, но на стенах играли оранжевые квадратики. Под красным полосатым светом словно бы разгорался пёстрый ковёр. Я нашёл клочок бумаги и написал начальные слова одной из любимых Рениных песен: «Не стану грустной песней красавицу будить». И, положив записку на столик у кровати, по пружинистому ковру бесшумно вышел на застеклённую узкую веранду, спустился во двор.
Мы вместе пили кофе, затем Роберт с Араксией уехали на машине в ближайшую Яламу за рыбой. Втайне от Араксии я сунул Роберту денег – за рыбу и вчерашнего ягнёнка. Роберт не хотел их брать, но я пригрозил обидеться, и он уступил.
Саргис уже погнал скотину на пастбище, и мы его больше не видели.
Я пересёк сад и вышел в лес. Трава была покрыта предрассветной сверкающей солнцем росой. Я долго ходил по лесу. В листве не было поющей красноклювой и светло-коричневой пташки. То есть она, может, и была, но не пела. Вчера она, наверное, чирикала специально для Рены. Приятна тишина леса на позолоченном рассвете. В ней, этой тишине, – какая-то необъяснимая тайна. Сойдя с тропинки, я углубился в лес. Знакомый пряный запах прелых листьев и сырой земли, тихое журчание затаившегося под листвой ручейка, неумолчная песня дрозда, печальный зов кукушки и вправду невольно уводят меня в другой, далёкий, переполненный сказками мир моего далекого детство. В этом далёком мире жил мой дедушка Воскан. Высокий, светлый, худощавый, с наивным и добрым, как икона, лицом, обросший седыми волосами, тот, кого все мы, его внуки, величали Айриком*. Была в этом мире и Мец мама** Машо, кроткая, смиренная, безобидная и
добрейшая женщина, мать моего отца. Они и сейчас живы, в муках и
мытарствах вырастившие восьмерых детей, одни-одинёшеньки живут в четырёх стенах, не сводя глаз с дороги, по которой должны вернуться их дети и внуки, заблудшие в дальних городах.
…По долгому автомобильному гудку я понял, что Роберт с Араксией вернулись из Яламы и зовут меня.
– Где ты пропадаешь, братец? – весёлый и, как всегда, подвижный и деловитый, Роберт улыбался, засучивая рукава. – Ты только глянь, что за рыбина.
На листьях лежала громадная севрюга и судорожно открывала и закрывала рот, силясь глотнуть воздуха.
Рена вышла на голоса из комнаты Алвард, с веранды, словно бы стесняясь и не осмеливаясь, посмотрела на меня и улыбнулась.
Я бросил на неё мимолётный взгляд, не в силах скрыть своего восхищения её светящимся видом.
*Айрик- дедушка,
**Мец мама-бабушка
– Позавтракайте и сходите на море, а я пока рыбу разделаю. Как вернётесь, приготовим шашлык, – посоветовала нам Араксия и пошла заняться завтраком.
– Я вам помогу, – с готовностью предложила Рена и пошла за ней.
Когда мы покинули Набран, повеяло прохладой. До города мы доехали вечером. После тихого Набрана город напоминал огромный гудящий улей.
*******
— Буду тебе к каждому празднику дарить эти духи, раз уж они так тебе нравятся. Что у вас за шум?
— Я звоню из школы, сейчас перемена.
— Рассказать тебе анекдот?
— Расскажите.
— Слушай. Карабахец лет восьмидесяти заходит в городе в магазин и просит у продавца два костюма. Продавец ему: зачем тебе два костюма, износишь один — уже хорошо. Да нет, говорит карабахец, один мне, другой отцу. Коли тебе восемьдесят, говорит продавец, значит, отцу твоему лет сто — сто пять, верно? Верно, соглашается карабахец. Зачем ему в таком-то возрасте костюм, недоумевает продавец. Карабахец объясняет: отец отца, то бишь мой дед, женится, мы не хотим у него на свадьбе ударить лицом в грязь. Продавец чуть не рехнулся со смеху. Послушай, говорит, ежели тебе восемьдесят, отцу твоему — сто или сто пять, стало быть, деду — лет сто тридцать. И он хочет жениться? Нет, растолковывает наш карабахец, он-то как раз не хочет, да родители настаивают.
Эсмира расхохоталась.
— Сколько же тогда лет родителям?
— Лет, наверное, сто шестьдесят.
— Да разве же люди столько живут?
— Почему бы и нет? Адам прожил девятьсот тридцать лет.
— Быть того не может, — засмеялась Эсмира.
— А знаешь ли ты, сколько жил Ной?
— Сколько?
— Шестьсот лет до потопа, который продлился сто пятьдесят дней, и триста пятьдесят лет после.
— Ну да! — снова рассмеялась Эсмира. — Не может этого быть. Я никогда в это не поверю.
— Еврейский патриарх Мафусаил прожил девятьсот шестьдесят девять лет. В шестьсот лет он был столь бодр, энергичен и привлекателен, что девушки в Иудее влюблялись в него с первого взгляда, и никто не давал ему больше трёхсот пятидесяти.
— Ой-ой-ой, — то ли в изумлении, то ли в полном восторге засмеялась Эсмира, и я вообразил её в эту минуту — с приоткрытыми алыми губами, с ровными как на подбор зубами редкой белизны, искристым блеском смешливых глаз и покачивает вдобавок головой. — Так уж и влюблялись. Всё вы выдумываете, выдумщик вы, — снова засмеялась она. Не верю и никогда не поверю, мы в школе ничего такого не проходили. Но я всё-таки проверю, непременно проверю. А вы слышали такой анекдот? Армянское радио спрашивают: правда ли, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс муж и жена? Нет, отвечает армянское радио, это четверо разных людей. — Эсмира снова и так же восторженно засмеялась. — А вот ещё один… Ой нет, уже звонок. Жаль. Ну да ладно. Большое-пребольшое-пребольшущее вам спасибо. — Она засмеялась и повесила трубку. Я долго ещё улыбался, меня переполняла неведомая светлая радость.
Первого сентября мне позвонила Эсмира. Я б узнал её среди сотни голосов.
– Знаете, почему я позвонила? – спросила она.
– Не скажешь – никогда не узнаю, – пошутил я.
Она рассмеялась.
– Чтобы вас поблагодарить.
– Ну и кто тебе мешает? – продолжил я в том же шутливом духе. – Может, Заур?
– Не-ет, – залилась она смехом. – Никто не мешает. Хочу сказать спасибо за «Шанель». В жизни этого не забуду.
— Буду тебе к каждому празднику дарить эти духи, раз уж они так тебе нравятся. Что у вас за шум?
— Я звоню из школы, сейчас перемена.
— Рассказать тебе анекдот?
— Расскажите.
– Слушай. Карабахец лет восьмидесяти заходит в городе в магазин и просит у продавца два костюма. Продавец ему: зачем тебе два костюма, износишь один – уже хорошо. Да нет, говорит карабахец, один мне, другой отцу. Коли тебе восемьдесят, говорит продавец, значит, отцу твоему лет сто – сто пять, верно? Верно, соглашается карабахец. Зачем ему в таком-то возрасте костюм, недоумевает продавец. Карабахец объясняет: отец отца, то бишь мой дед, женится, мы не хотим у него на свадьбе ударить лицом в грязь. Продавец чуть не рехнулся со смеху. Послушай, говорит, ежели тебе восемьдесят, отцу твоему – сто или сто пять, стало быть, деду – лет сто тридцать. И он хочет жениться? Нет, растолковывает наш карабахец, он-то как раз не хочет, да родители настаивают.
Эсмира расхохоталась.
– Сколько же тогда лет родителям?
– Лет, наверное, сто шестьдесят.
– Да разве же люди столько живут?
– Почему бы и нет? Адам прожил девятьсот тридцать лет.
– Быть того не может, – засмеялась Эсмира.
– А знаешь ли ты, сколько жил Ной?
– Сколько?
– Шестьсот лет до потопа, который продлился сто пятьдесят дней, и триста пятьдесят лет после.
– Ну да! – снова рассмеялась Эсмира. – Не может этого быть. Я никогда в это не поверю.
– Еврейский патриарх Мафусаил прожил девятьсот шестьдесят девять лет. В шестьсот лет он был столь бодр, энергичен и привлекателен, что девушки в Иудее влюблялись в него с первого взгляда, и никто не давал ему больше трёхсот пятидесяти.
– Ой-ой-ой, – то ли в изумлении, то ли в полном восторге засмеялась Эсмира, и я вообразил её в эту минуту – с приоткрытыми алыми губами, с ровными как на подбор зубами редкой белизны, искристым блеском смешливых глаз и покачивает вдобавок головой. – Так уж и влюблялись. Всё вы выдумываете, выдумщик вы, – снова засмеялась она. Не верю и никогда не поверю, мы в школе ничего такого не проходили. Но я всё-таки проверю, непременно проверю. А вы слышали такой анекдот? Армянское радио спрашивают: правда ли, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс муж и жена? Нет, отвечает армянское радио, это четверо разных людей. – Эсмира снова и так же восторженно засмеялась. – А вот ещё один… Ой нет, уже звонок. Жаль. Ну да ладно. Большое-пребольшое-пребольшущее вам спасибо. – Она засмеялась и повесила трубку.
Я долго ещё улыбался, меня переполняла неведомая светлая радость.
*******
С Реной мы, как и прежде, встречались по субботам, кружили на машине по городу и за городом; там, за поселком Бинагади, на ведущей к новханинскому пляжу дороге, где сравнительно мало машин и по обе стороны трассы только и вздымаются вверх-вниз нефтяные вышки, качая нефть по трубам, я учил Рену водить машину; порою мы играли в теннис на огороженном корте спортобщества «Динамо» возле моря, или посещали по специальным контрамаркам закрытые кинопросмотры в здании правительства. Самым же незабываемым выдался предновогодний вечер в ресторане «Гюлистан».
То был неповторимый, неизгладимый из памяти вечер, снежный и тёплый. Мы ждали на улице Роберта. Лёгким пушком непрестанно сыпал снег. Крупные снежные хлопья, как миллионы и миллиарды белых мотыльков, реяли, парили в воздухе и как-то нехотя, медленно падали наземь.
Чуть поодаль от нас, за присыпанными снежным покровом кипарисами, стоял фуникулёр, поскрипывая на пологом подъёме, поднимался к Кировскому парку по тросу прикрытый прозрачной снежной бело-голубой пеленой вагон. Вдали в тусклом вечернем небе одиноко высилась освещённая красноватыми огнями телевизионная башня.
Я просунул руку под Ренин полушубок, обнял её жаркое, вожделенное тело, притянул, прижал к себе, вдыхая пьянящий запах её гладкой, словно полированной шеи, и сердце защемило, а душу всколыхнуло от этой обжигающей близости. Она слегка запрокинула голову, крупные снежинки, словно крылатые звёздочки, беспрерывно падали на её озарённое светом лицо. Рена, волнующая, упоительно юная, вложив руки в перчатках в меховые рукава – левую в правый и наоборот, – восторженно смеялась, будто капризная девчушка, и ловила эти снежинки кончиком языка.
В неоновых отсветах из прелестного её рта клубился пар, я крепче и крепче прижимал её к себе, без умолку шепча: « Цав՛д танем, цав՛д танем, цав՛д танем», и на глазах у меня наворачивались слёзы нежности и неизъяснимой любви к Рене, переполнявших мне душу.
– Лео, – тихо и как-то насторожённо шептала Рена, – всякая девушка или женщина, не имеет значения, мечтает видеть подле себя настоящего мужчину – сильного, решительного, доброго и понимающего, чтобы чувствовать себя с ним любимой, желанной и защищённой. Жизнь не самое главное из того, что есть у человека. Куда важнее любовь, вера и безоглядная преданность своей любви. Человеку дано лишь одно сердце, в нём имеется место лишь для одного-единственного, и я не ошиблась, избрав и полюбив именно тебя. Когда я задумываюсь об этом, то сама себе завидую, и единственное, к чему я способна на свете, – это любить и чтить тебя, любить и преклоняться перед тобой, перед тем единственным, ради кого я могу в это мгновенье, ни секунды не раздумывая, без малейших колебаний пожертвовать всей своей жизнью.
Я поднял взгляд, и бурная волна нежности, как и чуть раньше, захлестнула меня; в волшебно-голубых глазах Рены тоже появилось озерцо слёз, лучившееся сияющим светом.
– Рена, Рена, бесподобная моя Рена, – задыхаясь ликованьем и волненьем и с необычайно сильно колотящимся сердцем вымолвил я, но не успел ничего сказать, меня прервал голос Роберта.
– Братан, – не выбравшись из машины, издали радостно воскликнул Роберт, – у весельчака веселья не убудет, ох и повеселимся! – воодушевлённо сказал он. – Снегу и морозу не под силу помешать нам, и мы достигнем благой нашей цели.
Мы разделись в гардеробной на первом этаже и поднялись в ресторан, где Роберт загодя заказал столик. Роберт пришёл не один, а со своим другом Зармиком. Подвижной и деятельный наподобие Роберта, Зармик тоже работал прежде в министерстве связи, но затем уволился оттуда и занялся торговлей, переправлял в Москву фрукты и овощи.
Со своими густыми пышными усами Зармик вовсе не походил на армянина; коренной нахичеванец, он говорил по-азербайджански на нахичеванский манер, произнося, к примеру, не Нахичеван, а Нахцван.
«Я из Агулиса, – говаривал Зармик. – Знаете, чем агулисцы знамениты? – со смехом вопрошал он. – Мы экономны. Кладём в банку сыр, намазываем банку хлебом и едим».
Оба они были со своими девушками – Лией и Симой. Лию я видел много раз, она давно встречалась с Робертом, а с ясноглазой и белокожей Симой, жившей в Забрате, посёлке под Баку, и тоже носившей фамилию Махмудова, сталкивался впервые. В просторном зале на втором этаже, откуда весь город с мерцающими своими огнями был как на ладони, под песни и музыку самозабвенно танцевали, без конца шутили, беззаботно смеялись.
Зармик рассказал анекдот, смахивавший на сказку. «Мужик удит у реки и вдруг вытаскивает из воды серебряную рыбку, – повествовал он. – Рыбка обращается к нему на человечьем языке: братец, отпустишь меня – выполню твоё желание. Мужик был патриотом, показал серебряной рыбке карту Армении времён Тиграна Великого и сказал: Хочу Армению от моря до моря. Серебряная рыбка смотрит на карту, соизмеряет её в уме с нынешней политической и территориальной ситуацией и говорит: я бы с радостью, да для такого дела нужна хватка золотой рыбки. Прости, пожелай чего-нибудь ещё. Мужик чуть было не рехнулся и не слопал серебряную рыбку, но вспомнил кое-что и говорит: дома у меня три дочки засиделись, выдай их замуж – отпущу. Серебряная рыбка говорит: покажи дочкины фотографии. Мужик достаёт из кармана фотокарточки и протягивает серебряной рыбке. Та смотрит на карточки, смотрит, смотрит и говорит: нет, братец, дай-ка лучше карту, погляжу, что можно сделать».
Мы громко расхохотались – и анекдот был остроумный, и рассказывал Зармик со смаком.
Потом мы с Реной танцевали испанское «Фламенко» и, видимо, танцевали неплохо, особенно Рена – вдохновенная, восхитительная, прямо-таки воплощённая прелесть в сверкающем ярко-красном длинном платье с широким вырезом, – потому что прочие пары вскоре подались назад, оставили танцевальную площадку нам двоим, образовали круг и, подбадривая нас, энергично захлопали в такт музыке.
Вечер удался, и мы не заметили, как пролетело время.
– Пусть Новый год принесёт всем нам новую радость, – провозгласил Роберт заключительный тост. – Пусть он принесёт всем счастье! Уверен, так оно и будет, и год окажется благоприятным. Иной раз – как, например, сегодня – жизнь одаряет человека неповторимо счастливыми мгновеньями. У счастья нет завтрашнего дня, нет и вчерашнего, оно не помнит минувшего, не задумывается о грядущем, оно признаёт исключительно настоящее и длится не целый день, а краткие часы, минуты, может, и секунды, и его тайна в том, чтоб эти секунды, которые стоят порою всей жизни, повторялись по возможности чаще. С Новым вас годом, дорогие мои! Встретимся здесь же, в прекрасном этом зале, 23 февраля, в день Советской армии, в шесть вечера. Согласны?
– Согласны! – с весёлым единодушием откликнулись все и с задорным звоном сдвинули в знак согласия хрустальные бокалы.
Продолжение во второй части — https://aga-tribunal.info/bereg_2_rus/
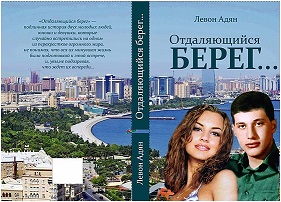
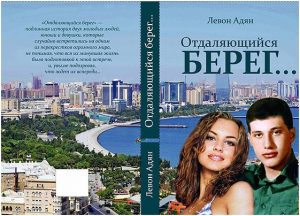
2 thoughts on “Левон Адян. Отдаляющийся берег (роман-реквием)”